
Маргарет Тэтчер. 2003 г. (из книги "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира")
Бисмарк, к мнению которого следует относиться со всей серьезностью, точно знал, как надо воспринимать призывы к европейскому идеализму. "Я постоянно слышал слово "Европа", - как-то заметил он, - от тех политиков, которые хотели добиться от других держав того, чего не осмеливались потребовать от своего собственного имени". То же самое я могу сказать и о себе.
Идея Европы, я подозреваю, в немалой мере использовалась для надувательства. Не просто национальные интересы, а огромное множество групповых и классовых интересов (особенно сейчас) успешно скрываются под мантией синтетического европейского идеализма. Почти религиозное благоговение перед словом "Европа" идет рука об руку с явно материалистическим крючкотворством и коррупцией. Я попытаюсь объяснить низкие мотивы всего этого несколько позже. Сейчас же хочу остановиться на тех возвышенных аспектах, которыми обставлена идея, поскольку их последствия вызывают более серьезную озабоченность.
Нередко говорят, что история европейского проекта восходит к замыслу ряда политиков континентальной Европы, государственных деятелей и мыслителей создать такую наднациональную структуру, которая сделала бы войны в Европе невозможными. С этой целью Францию и Германию необходимо связать друг с другом, первоначально экономически, а затем, постепенно, и политически. Такое решение, конечно, имело историческое значение. Основу первого этапа осуществления европейского плана интеграции - Европейское объединение угля и стали, учрежденное 18 апреля 1951 года, - заложили Жан Монне и Робер Шуман. Этот план затем был провозглашен в знаменитой (или печально известной) преамбуле подписанного 25 марта 1957 года Римского договора, где была поставлена задача создания "еще более сплоченного союза". План продолжал существовать и укрепляться вплоть до сегодняшнего дня, когда Европа оказалась на пороге создания федеративного сверхгосударства. К сказанному можно добавить, что этот мотив был не единственным. Интеграция не входила, например, в число моих целей или целей Консервативной партии, как я их тогда понимала, в 70-е, 80-е и 90-е годы. Однако реально в то время господствовали идеи Монне, Шумана, де Гаспери, Спаака и Аденауэра, а не Тэтчер (и даже не де Голля и Эрхарда).
Я хочу сказать, что за созданием европейского сверхгосударства стояло не просто желание предотвратить войны в Европе. Стремление к нему возникло намного раньше. Если национализм осуждают за притеснение национальных меньшинств, то наднационализм заслуживает еще большего осуждения, поскольку он предполагает подчинение целых государств. Именно это и происходит в Европе. На вершине своего расцвета в XVI столетии габсбургская Священная Римская империя, например, стремилась к всемирному господству. Аббревиатура А-E-I-O-U (Austria est imperare orbi universo - Австрии предначертано править миром), служившая девизом Габсбургов, лаконично и предельно ясно выражает их замыслы. На деле этого удалось достичь лишь отчасти, да и то ненадолго. Вслед за Габсбургами на более короткий, но значительно более кровавый период Европу оседлал Наполеон Бонапарт. Наполеоновская программа объединения Европы выглядит такой современной не только из-за того, что она написана на французском языке. Например, одной из целей Бонапарта было, как он выразился, создание "валютного единства по всей Европе". Позже он заявил, что его кодекс общего права, система университетского образования и денежно-кредитная система "превращают Европу в единую семью. Никто не будет покидать дома, путешествуя по ней". Президент нынешнего Европейского центрального банка вряд ли мог сформулировать идею лучше.
В Адольфе Гитлере с его устремлениями к европейскому господству вполне можно увидеть последователя Наполеона. Терминология, которой пользовались нацисты, жутковато напоминает ту, что в ходу у нынешних еврофедералистов. Гитлер, в частности, высокомерно говорил в 1943 году о "кучке мелких наций", которые должны быть уничтожены во имя создания единой Европы.
Я вовсе не хочу сказать, что сегодняшние сторонники европейского единства склонны к тоталитаризму, хотя известность им принесла совсем не пропаганда терпимости. Просто мы должны уяснить из уроков европейской истории, во-первых, что программы европейской интеграции не обязательно несут благо; во-вторых, что желание осуществить грандиозные утопические планы нередко связано с серьезной угрозой свободе; и, в-третьих, что попытки объединить Европу предпринимались и раньше, однако их конец был далеко не таким счастливым, как хотелось бы.
В ответ на это, безусловно, скажут, что цель нынешнего предполагаемого европейского политического союза совсем иная уже потому, что объединение происходит без применения силы, а его официальный мотив - сохранение мира. Но такой аргумент более не может быть убедительным, если вообще когда-либо был таковым.
Сомнительно, чтобы Европейское объединение угля и стали, общий рынок, Европейское экономическое сообщество или Европейский союз, не говоря уже о зарождающемся европейском сверхгосударстве, могли играть заметную роль в предотвращении как прошлых, так и будущих военных конфликтов. Побежденная, расчлененная и униженная Германия не могла быть источником проблем на протяжении всей "холодной войны", а другие государства уже давно (фактически со времен Наполеона) не инициировали войн в Европе. Угроза во время "холодной войны" исходила от Советского Союза, мир и свободу в Западной Европе защищало НАТО во главе с США, а не европейские институты. Даже сегодня американское военное присутствие в Европе - важнейшая гарантия безопасности европейского континента перед лицом угроз со стороны стран бывшего Советского Союза и возрожденных амбиций Германии. Поверьте, это ни в коей мере не преувеличение. По всей видимости, пацифистские возможности евроэнтузиастов раздуваются сверх меры с тем, чтобы убедить нас в необходимости объединения Европы для обеспечения мира, в то время как она активно пытается стать крупнейшей военной державой.
Идея Европы, впрочем, не вызвала бы столь сильного резонанса, будь она связана лишь с картелями, комиссарами и единой политикой в сфере сельского хозяйства. Как человек, глубоко разочарованный тем, что делается от имени "Европы" я вижу это совершенно отчетливо. Европейский миф не становится менее влиятельным оттого, что это миф. Причина здесь в том, что в умах множества людей он ассоциируется с цивилизованным образом жизни. Например, в качестве противопоставления нередко, особенно во Франции, приводится вульгарность американских ценностей. В глазах же многих евроэнтузиастов Европа представляется в какой-то мере реализацией идей законности и правосудия, уходящих корнями в Древнюю Грецию и Рим. С точки зрения утонченных умов, властвовать должны соборы в готическом стиле, картины эпохи Возрождения и классическая музыка ХVIII столетия. Европейская идея, похоже, может практически неограниченно видоизменяться. В этом и заключается ее прелесть. Если вы набожны, она - олицетворение христианского мира. Если вы либерал, она принимает вид философии просветителей. Если вы человек правых взглядов, она является вам оплотом против варварства отсталых континентов. Если же вы придерживаетесь левых взглядов, она воплощает в себе интернационализм, торжество прав человека и помощь третьему миру. Однако за столь безграничной трансформируемостью этой чудесной концепции Европы на деле кроется не что иное, как пустота.
Европа в любом ином смысле помимо географического - совершенно искусственное построение. Нет ни капли смысла в перемешивании Бетховена и Дебюсси, Вольтера и Берка, Вермеера и Пикассо, соборов Парижской Богоматери и Святого Павла, отварной говядины и тушеной рыбы, а затем в преподнесении их как элементов "европейской" музыкальной, философской, художественной, архитектурной или гастрономической реальности. Если Европа чем-то и способна очаровать нас, так это своими контрастами и противоречиями, а не связностью и единством. Трудно представить себе что-нибудь менее подходящее для создания успешного политического блока, чем эта предельно неоднородная смесь. Я подозреваю, что в действительности даже самые фанатичные евроэнтузиасты в глубине души понимают это. Они ни за что не признаются и будут утверждать прямо противоположное, но на деле их чем-то не устраивает повседневная реальность общественной жизни в Европе. Именно поэтому они и пытаются гармонизировать и регулировать ее, а в конечном итоге превратить в нечто совершенно иное, лишенное корней и формы, но зато соответствующее их утопическим планам.
"Европейская" самобытность, если таковая существует, заметнее всего проявляется в том, что нередко называют европейской экономической и социальной моделью. Эта модель хоть и имеет различные формы в различных европейских странах, тем не менее, заметно отличается от американской модели, а точнее, резко с ней расходится. Чтобы охарактеризовать философию, стоящую за ней, и не отождествлять ее со старомодным социализмом, вполне можно воспользоваться некоторыми высказываниями Эдуарда Балладура, который был в свое время премьер-министром Франции: "Что такое рынок? Это закон джунглей, закон природы. А что такое цивилизация? Это борьба против природы".
Г-н Балладур - чрезвычайно тонкий и умный французский политик правоцентристского толка. Но он совершенно ничего не понимает в рынках. Рынки не существуют в пустоте. Они требуют взаимного признания правил и доверия. Начиная с определенной ступени развития, только государство, устанавливающее меры веса, системы измерения, правила и законы против мошенничества, спекуляции, картелей и т. п., может обеспечить функционирование рынков. Конечно, рынок - любой рынок - неизбежно ограничивает власть государства. На рынке инициатива принадлежит частным лицам, цены определяются предложением и спросом, а результаты неизбежно непредсказуемы. Однако представление рыночных процессов как примитивных и диких свидетельствует о крайне поверхностном и извращенном понимании того, что составляет основу западной цивилизации и обеспечивает прогресс.
Во Франции враждебное отношение к рынкам, особенно к международным рынкам, на которых государства торгуют друг с другом, имеет очень глубокие корни. Возможно, французы по складу своего характера более спокойно, чем британцы, относятся к существенному вмешательству государства в экономику и высокому уровню регулирования. Довольно высокая эффективность французской экономики в последние десятилетия, безусловно, подтверждает это.
Вместе с тем в европейской экономической модели есть и германский вариант, который, учитывая размер Германии и ее богатство, пожалуй, имеет более высокую значимость. В то время как французы предпочитают статизм - именно они и придумали это слово, - немцы более склонны к корпоратизму. Нет, их нельзя назвать антикапиталистами, но их концепция капитализма, которую иногда называют рейнским капитализмом, предполагает ограничение конкуренции, благосклонное отношение к картелям и высокий уровень регулирования. Под термином "социальный рынок" кроется другой атрибут этой системы. Это выражение придумал Людвиг Эрхард, хотя, я полагаю, позднее оно ему разонравилось, поскольку его стали использовать для оправдания широкого вмешательства государства и высоких государственных расходов. Это означает, что немцы сегодня получают более высокие социальные выплаты, чем нормально приемлемо для "сетки безопасности" в Великобритании с точки зрения любого, за исключением представителей левого крыла Лейбористской партии. Немцы пока еще пытаются сопротивляться настоятельной потребности ограничить эти расходы.
И французы, и немцы, однако, сходятся в том, что экономическая политика, проводимая Америкой и, в значительной мере, Великобританией после 1979 года, является для них неприемлемой. Так, в газете Le Monde министры финансов Франции и Германии заявили: "Чрезмерное стремление неолибералов к не регулированию рынков труда привело не столько к созданию рабочих мест, сколько к блокированию реформ. Мы уверены в том, что европейская социальная модель - это наш козырь, а не препятствие".
В действительности целый ряд авторитетных исследований вполне убедительно доказывает прямо противоположное. Изучая результаты предпринимаемых Францией и Германией попыток повысить занятость путем ограничения рабочего времени, Кит Марзден отметил, что, несмотря на сокращение среднего числа отработанных часов, уровень безработицы в обеих странах вырос. В противоположность этому в Соединенных Штатах, где люди стали работать дольше, и в Великобритании, где продолжительность рабочего времени не изменилась, наблюдалось значительное сокращение безработицы. Точно так же не привели к увеличению числа рабочих мест для молодежи и европейские программы раннего выхода на пенсию. Их результатом стало лишь повышение социальных налогов и еще большее обременение бизнеса.
В наибольшей мере отрицательный эффект обусловлен высокими корпоративными налогами и высоким уровнем регулирования, особенно рынков труда. Оттого, что результат здесь в высшей степени предсказуем, этот пример преднамеренного нанесения себе ущерба собственными руками не становится менее впечатляющим: "контраст по сравнению с Соединенными Штатами разителен. С 1970 года в экономике США было создано почти 50 миллионов рабочих мест, а в Европейском союзе - всего лишь 5 миллионов".
*** *** ***
Странам-кандидатам неплохо также иметь представление о том, как функционирует Европейский союз. Его стиль крайне трудно выразить одним словом - это фактически невероятная смесь авторитаризма, бюрократии и интервенционизма, с одной стороны, и соглашательства, отсутствия стимулов и неэффективности - с другой. Европейский союз вечно полон всяких планов, программ и проектов. Результат по большей части - неэффективная мешанина. Руководство невероятно красноречиво, однако его решения - объект торговли. Его претензии на великодержавность не имеют себе равных, однако средства, имеющиеся в его распоряжении, ограничены, а попытки занять место на мировой сцене лишь все усложняют.
Возможно, самый серьезный недостаток этого оперяющегося сверхгосударства заключается в том, что оно не является демократическим, не будет демократическим, да и в принципе не может стать таковым. Дело здесь вовсе не в постоянно склоняемом "демократическом дефиците,"который обычно связывается с несоответствием полномочий Европейской комиссии и Европарламента. На деле эта дискуссия исходит из ложной предпосылки. И Комиссия, и Парламент проводят одну и ту же федералистскую программу, а она не является демократической.
Подлинная причина, по которой дееспособная панъевропейская демократия не может существовать, заключается в отсутствии панъевропейского общественного мнения. Сколько бы попыток наладить связи между политическими партиями различных европейских стран ни предпринималось, эти партии будут ориентироваться на национальные программы и вопросы, поскольку именно от них зависит их успех и будущее. Влияние же европейских вопросов на результаты выборов скорее всего будет негативным, ибо то, что идет на пользу Европейскому союзу, например открытые границы или более свободная иммиграция, вызывает всеобщее раздражение.
Хотя это и банально, но нередко забывают о том, что между государствами Европейского союза существуют чрезвычайно серьезные языковые барьеры: в нынешних государствах-членах люди говорят не менее чем на 12 основных языках. Даже у высокообразованной элиты, достаточно хорошо владеющей иностранными языками, образ мыслей может быть очень далеким от того, который характерен для носителей языка. Именно поэтому для подавляющего большинства европейского населения понятие местожительство имеет национальный или местный, а не континентальный смысл.
Конечно, со временем европейцы могут поголовно перейти на английский (если это и шутка, то лишь наполовину). Если такое случится, можно всерьез подумать о выводе демократии на панъевропейский уровень. Сегодня же, да и в обозримом будущем, увеличение числа наднациональных решений будет означать все большее отдаление Европы от демократии.
Ни одна из множества предложенных схем введения в Европе новой "конституции" не может изменить сложившейся ситуации. Для меня совершенно очевидно, что самые твердые сторонники еврофедерализма зачастую в начале своей политической карьеры увлекались детским утопизмом, слегка замешанным на революционном принуждении конца 60-х и 70-х годов. Некоторые из них от рождения ошибочно судят практически обо всем, даже когда изменяют свою позицию на прямо противоположную. Взять хотя бы изложенные 12 мая 2000 года в Берлине взгляды министра иностранных дел Германии Йошки Фишера, чьи откровения во времена, когда он был молодым политиком леворадикального толка, попеременно развлекали и шокировали немецкую публику, на то, что он назвал "завершением европейской интеграции". Решением текущих проблем герр Фишер считает следующее:
...Переход от союза государств к полновесной парламентской структуре, имеющей форму Европейской Федерации... Это предполагает наличие такого европейского парламента и правительства, которые будут реальной законодательной и исполнительной властью в Федерации. Федерация должна строиться на основе учредительного договора.
Далее он доказывает необходимость:
...завершения политической интеграции... [через] создание центра тяжести. Это группа государств, заключающая новый европейский рамочный договор и создающая ядро Федерации. На основе такого договора Федерация может создавать свои собственные институты: правительство, которое в пределах ЕС будет единодушно выступать от имени членов группы по любому вопросу, сильный парламент и избираемый путем прямого голосования президент.
Чтобы кто-нибудь случайно не принял это за провокационный пробный шар, замечу, что весь этот пакет был позднее одобрен остальными. Президент Жак Ширак во время выступления в германском бундестаге высказался за формирование "первоначальной группы" европейских стран во главе с Францией и Германией, которые стремятся к более глубокой политической интеграции. В развитие этой мысли канцлер Шредер призвал преобразовать Европейскую комиссию в "сильный европейский орган исполнительной власти" с выборным руководителем, иными словами создать Европейское правительство. Вслед за этим Лионель Жоспен, премьер-министр Франции, по-своему приукрасил проект федерализации. Несмотря на то, что его идеи расходились с идеями канцлера Германии по некоторым аспектам - он хотел видеть более широкое экономическое регулирование и менее влиятельную Европейскую комиссию, - мсье Жоспен был полностью на стороне "европейского правительства зоны евро". Франко-германская ось (хотя сейчас вернее было бы называть ее германо-французской), совершенно очевидно, продолжает исправно функционировать, несмотря ни на что. Увы, Великобритания не может на нее эффективно воздействовать, даже если бы ее нынешнее правительство и захотело это сделать.
Возведение гигантской федеративной суперструктуры есть не что иное, как строительство нового европейского сверхгосударства. Отрицать это и называть новое образование "сверхдержавой", как настаивает Тони Блэр, - пустая софистика. Я подарю экземпляр моих мемуаров любому, кто сможет убедительно объяснить, что такое европейская сверхдержава, которая не является сверхгосударством. Почему-то мне кажется, что моим запасам мемуаров ничто не угрожает.
Как я уже объясняла, до тех пор, пока не будет подлинно всеевропейского общественного мнения, что, в свою очередь, должно привести к возникновению подлинно всеевропейского самосознания, Европа не может быть демократической. Если подобный довод покажется не слишком обоснованным, то нужно лишь взглянуть на многочисленные факты презрительного отношения европейских политиков и чиновников к обычным демократическим процедурам. Думаю, следующих примеров будет вполне достаточно.
Немцы уверены, что главным символом их послевоенных достижений была марка, опекаемая Немецким федеральным банком с достойным подражания мастерством. Стоит ли удивляться тому, что подавляющая часть населения хотела сохранить ее. В ходе опроса общественного мнения в 1992 году 84% респондентов высказалось в пользу референдума по вопросу присоединения к Маастрихтскому договору. Почти 75% высказались решительно против отмены национальной валюты. Однако никакого референдума так и не было, а немецкая марка была принесена в жертву новой валюте - евро. Политическая и деловая элита Германии приняли решение, а мнение большинства оказалось никому не нужным. Вместе с тем это мнение так и не изменилось: в соответствии с опросом, проведенным в марте 2001 года, 70% немцев были против введения евро. Похоже, это никого не интересовало.
Когда датчане, которым удалось добиться проведения референдума, проголосовали 2 июня 1992 года за отказ от Маастрихта, проевропейски настроенная датская политическая элита решила, что голосование будет продолжаться до тех пор, пока не получится нужный результат. Вдобавок к этому тогдашний британский министр иностранных дел Дуглас Херд предостерег Данию, что повторное "нет" приведет к "изоляции" страны и может спровоцировать "кризис, способный подорвать положение Дании в ЕС". В результате таких угроз датчане изменили свое мнение и 18 мая 1993 года покорно проголосовали "за".
Брюссель, однако, подобно хулигану, которому поначалу все сходило с рук, продолжал угрожать датчанам до тех пор, пока не зашел слишком далеко. Возмутительное замечание Педро Солбеса, европейского комиссара по экономическому и валютному союзу, в марте 2000 года по поводу того, что "неполное членство далее неприемлемо: член ЕС должен быть участником экономического и валютного союза" не оказало никакого влияния на результаты референдума в сентябре того же года. Пятьдесят три процента проголосовавших, невзирая на предупреждение, высказалось против единой валюты. Тем не менее, можно не сомневаться: еврократия добьется своего.
Это касается и Швейцарии. Швейцарцы прекрасно себя чувствовали без Европейского союза. У них было все - и процветание, и стабильность, и свобода, поэтому были все основания считать, что вряд ли кто захочет расстроить существующее положение дел. Но проевропейское федеральное правительство Швейцарии думает иначе. На референдуме 4 марта 2001 года 77% швейцарцев высказались против вступления в ЕС. Ни один из кантонов не проголосовал "за". Несмотря на это, федеральное правительство продолжает твердить о своем намерении присоединиться к ЕС в ближайшие 5-10 лет.
Странам, подобным Швейцарии, и государствам Центральной и Восточной Европы (по примеру датчан, трезво взвесивших ситуацию перед голосованием на последнем референдуме) следовало бы повнимательнее присмотреться к тому, как Европейский союз обошелся с Австрией. В октябре 1999 года австрийцы проголосовали за ликвидацию старой, продажной системы распределения власти и льгот между левыми и правыми. Пятьдесят четыре процента избирателей поддержали Австрийскую народную партию и Австрийскую партию свободы. Нет никаких оснований считать, что результаты были подтасованы. Все произошло совершенно мирно и спокойно. Правая Партия свободы, возглавляемая Йоргом Хайдером, честно заработала 27% голосов. Но Совет министров ЕС, в котором преобладают левые, при поддержке президента Ширака ввел политические санкции против Австрии в расчете на то, что австрийцы вернут к власти левых. В качестве довода, подтверждающего правоэкстремистскую опасность для Европы, приводились различные высказывания герра Хайдера. Закрадывается, однако, подозрение, что в не меньшей мере неодобрительное отношение ЕС к Партии свободы связано с ее скептическим отношением к европейской интеграции. Вне всякого сомнения, европейцы полагали, что маленькая Австрия быстро пойдет на попятную, но санкции привели к обратному эффекту. Австрийцы, которые вовсе не пылали любовью к Хайдеру, сплотились вокруг правительства. Они испытывали глубокое возмущение. В ЕС поняли, что перегнули палку, а это может сказаться на результатах приближающегося референдума в Дании. Как оказалось, беспокойство было не напрасным. Тогда была избрана тактика "сохранения лица" и 12 сентября 2000 года после отчета, подготовленного "тремя мудрецами" санкции были тихо сняты.
Грубая попытка вопреки воле австрийского народа получить национальное правительство, характер которого устраивает страны - члены ЕС, предельно ясно характеризует образ будущего. В этой связи нельзя не обратить внимания и на угрозу канцлера Шредера, неуклюже брошенную в сторону Италии в самый разгар австрийского кризиса. Подобную акцию было обещано предпринять и против нее, если она допустит приход к власти правых сил.
На деле все, чего опасаются левые деятели от ЕС, сконцентрировано в лице Сильвио Берлускони и его партии "Форца Италиа", а также партий "Северная лига" и "Национальный альянс". Синьор Берлускони - динамичный бизнесмен, а не замшелый бюрократ. Он и его партнеры принадлежат к числу твердых антикоммунистов. Его программа ориентирована на освобождение компаний от государственного контроля. Коалиция "Дом свободы" - умеренно консервативная группировка, взгляды которой сходны с теми, что проповедуют консерваторы в Великобритании и Соединенных Штатах. Но это уже чересчур для левоцентристских еврофедералистов, которые совершенно не верят в преданность синьора Берлускони их грандиозной задумке похоронить национальные государства под конструкцией единого сверхгосударства. Развернутая в средствах массовой информации по всей Европе кампания очернения синьора Берлускони преследует единственную цель: заставить итальянский электорат пойти на попятную и отдать предпочтение левым. Это настолько возмутительно, что я выступила с поддержкой в его адрес в открытом письме, направленном в итальянскую прессу. В нем, в частности, говорилось: "Это не первая попытка европейского масштаба запугать национальный электорат. Однако она вполне может стать последней, если Италия откажется встать на колени".
Письмо получило широкий резонанс и, возможно, возымело действие. Так или иначе, итальянцы в массе своей проголосовали за партии, входящие в "Дом свободы" и за правительство Берлускони, которое, если сохранит единство, реально может превратить Италию в эффективное, процветающее и современное государство.
В случае с Италией - крупнейшим европейским государством, входящим в состав первоначальной шестерки, - у левых правительств стран ЕС хватило благоразумия, чтобы удержаться от прямых угроз применения санкций. Но это вовсе не значит, что к более мелким государствам - вроде Австрии - подход будет таким же, осмелься они проголосовать за партии, неугодные ЕС. На этот случай европейский Совет министров, находящийся в Амстердаме, уполномочен определять, имеются ли в государстве - члене ЕС "Серьезные и непрекращающиеся нарушения" принципов "Свободы, демократии, уважения прав человека" и т. п., а затем приостанавливать частично или полностью права этого члена (Статья 7). В Ницце возможности Европы угрожать тем, чья политика не устраивает большинство правительств стран-членов, были существенно расширены в результате уточнения языка, используемого в Амстердаме. Так что теперь Совет министров может оперировать понятием "явный риск серьезного нарушения". Так мало-помалу идет расширение центральной власти и выхолащивание права национального демократического выбора.
Оборотной стороной отсутствия демократии в ЕС является отсутствие отчетности. Интерес общества просто недостаточен для того, чтобы ставить под постоянный и эффективный контроль поведение европейских политиков и высокопоставленных чиновников. Отдаленность причинной связи открывает простор для злоупотребления властью, нецелевого использования общественных средств, а в некоторых случаях и для коррупции.
Стоит лишь прочитать убийственное заключение "комитета независимых экспертов" по заявлениям о фактах мошенничества, злоупотребления в управлении и семейственности от 15 марта 1999 года. Там говорится о таких вещах, как:
... утрата контроля политических властей над администрацией, которой они должны управлять (Параграф 9.2.2);
случаи, когда комиссары или комиссии в целом повинны в мошенничестве, несоблюдении правил или злоупотреблениях в управлении их службами или зонами ответственности (Параграф 9.2.3);
создание... "государства в государство" (Параграф 9.2.8);
использование общественных фондов (в некоторых случаях незаконное) для приведения в соответствие поставленных целей и выделенных на них ресурсов (Параграф 9.4.3);
невозможность найти хотя бы одного человека, обладающего чувством ответственности (Параграф 9.4.25).
В этом нет ничего удивительного. Если к системе централизованного принятия решений добавить завесу секретности и отсутствие реального обсуждения целей и средств, вряд ли стоит ожидать чего-то иного, кроме как взяточничества и некомпетентности. Ситуация не изменится, даже если подбирать и назначать безукоризненно честных людей с самыми прочными моральными устоями. Ее не поправить ни технической, ни процедурной реформами вроде тех, которые предложил вице-президент Европейской комиссии Нил Киннок.
В соответствии со сложившейся в Европе практикой, проблемы, возникающие в результате расширения неподотчетной центральной власти, неизменно используются для еще большего ее расширения под тем предлогом, что это нужно для устранения этих проблем. Так, в ответ на возмутительный уровень мошенничества в ЕС было предложено создать европейскую систему уголовного и процессуального права специально для борьбы против мошенничества с бюджетными средствами Сообщества, т. е., по существу, федеральную систему уголовного судопроизводства. Эта система, известная посвященным как Corpus Juris предполагает учреждение должности Европейского общественного обвинителя с представителем в каждой из столиц. Ряд специальных национальных судов, функционирующих по общим европейским правилам, будет выдавать "европейские ордера на арест" и сможет по требованию Обвинителя заключать потенциальных ответчиков в тюрьму на длительные сроки без судебного разбирательства.
Институт присяжных заседателей исключается из этих специальных судов, а предлагаемые европейские определения преступлений, связанных с мошенничеством, с одной стороны, неясны по содержанию, а с другой - значительно шире, чем, например, в британском законодательстве. Совершенно ясно, что это лишь первый шаг. Перспектива угадывается в положениях Амстердамского договора, который дает членам ЕС полномочия на "сближение, при необходимости, норм уголовного права" и "осуществление совместных судебных действий". Реализация предложений находится пока на начальной стадии. Но после принятого на саммите в Тампере в октябре 1999 года решения учредить EUROJUST - орган, в котором должны быть представлены обвинители, судьи и полицейские чиновники от каждого государства-члена, - и недавнего предложения создать "европейское судебное пространство"можно не сомневаться: они обязательно материализуются в той или иной форме. Рассматриваемые попутно призывы превратить Европол во всеевропейский аналог ФБР лишь дополняют картину того, что произойдет, когда еврофедералисты добьются своего.
Таким образом, подводя итог, я делаю следующие выводы:
• Европейский союз принципиально не может быть "демократической" структурой: попытки достичь этой иллюзорной цели на деле ведут к еще большему ущемлению прав национального электората.
• Точно так же не может быть и программы реформ, которая способна сделать политиков и должностных лиц ЕС реально подотчетными.
• Самое большее, что может сделать в настоящее время Великобритания и другие государства-члены, которым небезразлична их собственная демократия, - это противодействовать кампаниям запугивания и клеветы всякий раз, когда ЕС применяет эту тактику против кого-либо.

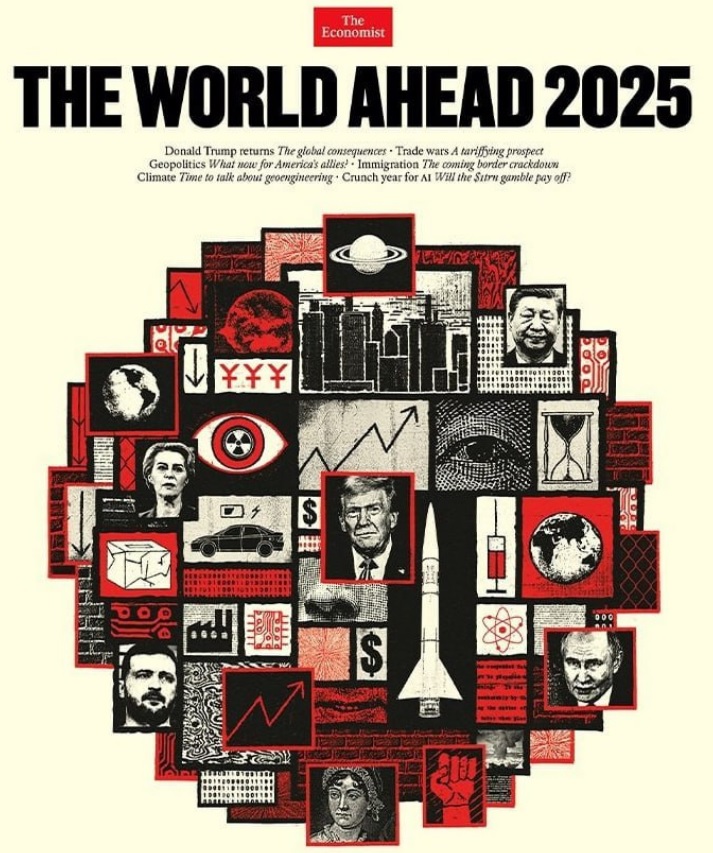
















Комментарии (0)