
Марчин Круль
Интервью с историком идей Марчином Крулем — профессором Варшавского университета.
- За один месяц мы стали свидетелями Брексита, теракта в Ницце, попытки переворота в Турции. Усматриваете ли вы какой-то общий знаменатель у всех этих событий?
 Марчин Круль (Marcin Król): К этому я бы еще прибавил события в США: растущую популярность Дональда Трампа, обстрел полицейских. Всю эту серию инцидентов связывает одна вещь.
Марчин Круль (Marcin Król): К этому я бы еще прибавил события в США: растущую популярность Дональда Трампа, обстрел полицейских. Всю эту серию инцидентов связывает одна вещь.
— Какая?
— Их можно было предсказать. С недавнего времени стало ясно видно, что мировой порядок постепенно начинает трещать по швам. Результатом стали события, о которых мы сейчас говорим. Отдельный вопрос, стоит ли их комментировать так, как это сделал министр внутренних дел Блашчак (Mariusz Błaszczak) (который заявил, что причину терактов можно найти, в частности, в политике мультикультурализма, — прим. перев.).
— Эти его слова были в каком-то смысле верными, но просто он очень неудачно подобрал слова. Не стоит министру делать комментарии подобного рода.
— Его высказывание оказалась за рамками приличий, хотя это в стиле правительства «Права и Справедливости» (PiS): они очень точно и четко формулируют угрозы, но в то же время смешивают вместе разные подходы. Слова Блашчака звучали так, словно Франция — это Польша. Если бы в нашей стране жили шесть миллионов мусульман, то можно еще было бы говорить о каком–то мультикультурализме, так как прежде у нас этих людей не было. Но во Франции они живут уже больше пятидесяти лет, сейчас невозможно сделать так, чтобы они вдруг просто исчезли.
— Да, мусульмане начали массово приезжать в начале 1960-х, но еще несколько лет назад с ними не было таких проблем, как сейчас.
— То же самое можно сказать о Турции. Еще год, два назад некоторые вещи мы даже не могли себе представить, а сейчас видим их своими глазами. Я говорю не только о том, что делает Эрдоган после провалившегося путча, я говорю обо всех явлениях, о которых мы только что говорили, то есть в том числе о терактах в Париже и Брюсселе.
— Сами по себе теракты — это не новое явление, оно не появилось в последние годы. Мы живем в ритме терактов с сентября 2011 года.
— Я говорю о распаде ощущения порядка , а не о терактах. Раньше в Америке время от времени тоже случались волнения: афроамериканцы поджигали городские районы, возникали беспорядки, но потом постепенно ситуация снова приходила в норму, люди возвращались с улиц домой, а города вновь отстраивались. В наше время ничто не предвещает, что ситуация сможет быстро нормализоваться. На политической сцене появился Трамп, и никто не знает, как к нему относиться. Многие приходят к выводу, что с ним надо просто смириться, но в то же время осознают, что они де-факто поддались на шантаж.
— Трамп вписывается в модель сильного лидера, впрочем, как Эрдоган, который использует путч для сильной консолидации власти. Как вы думаете, почему он так делает: это жаждущий власти мегаломан или, даже скорее, рациональный человек и прозорливый лидер, который понял, что прежние точки опоры, как ЕС или НАТО потеряди актуальность, и теперь о себе надо будет позаботиться самостоятельно?
 — В этом есть какая-то доля мегаломании, но Эрдоган прежде всего пришел к выводу, что настало время вести самостоятельную турецкую политику. Турция уже очень давно ее не имела. Запад не может принять самостоятельную турецкую политику не только из-за баз НАТО на территории этой страны, но также из-за миграционной волны, которую остановили турки. Эрдоган понимает свои преимущества, он осознает, что может делать, все что пожелает. Его положение настолько удобное, что он имеет возможность шантажировать всех в том числе и Россию.
— В этом есть какая-то доля мегаломании, но Эрдоган прежде всего пришел к выводу, что настало время вести самостоятельную турецкую политику. Турция уже очень давно ее не имела. Запад не может принять самостоятельную турецкую политику не только из-за баз НАТО на территории этой страны, но также из-за миграционной волны, которую остановили турки. Эрдоган понимает свои преимущества, он осознает, что может делать, все что пожелает. Его положение настолько удобное, что он имеет возможность шантажировать всех в том числе и Россию.
— Турция играет сейчас очень важную роль. До такой степени, что когда над этой страной сбили российский самолет, многие стали говорить, что Третья мировая война разразится непременно в этом регионе.
— Нет, так далеко никто не станет заходить. Войны не будет. Между тем я считаю, что скоро случится взрыв Большого хаоса. Это не будет классическим военным конфликтом, просто везде произойдет неразбериха. И в Турции, потому что до сих пор не ясно, к каким целям эта страна стремится, и в других частях мира тоже.
— Какого рода беспорядок вы ждете ? Снова больше терактов, новые путчи?
— Терроризм — не новое явление. Террористы существовали все время , теперь об этом нередко забывают, говоря лишь об атаках, которые случились после сентября 2011 года. Немало терактов было в 1970-х, жертвами теракта пали итальянский премьер Альдо Моро (Aldo Moro) и Александр II.
— Нельзя сказать, что об этих терактах никто не помнит. Ибо терроризм — это средство , которое применяют для поставленной цели. Мусульмане обратились к глобальному терроризму как раз 11 сентября.
— Но в нынешнем кризисе речь идет не только о терроризме. Мы стали очевидцами другого явления: нарушения баланса сил. Его долго получалось поддерживать, потому в мире было сравнительно тихо . Теперь он рушится , отсюда появляется столько проблем. Обстановку осложняет факт, что мы не полностью понимаем, какими интересами руководствуются те или иные силы, чего они на самом деле думают . Это заметно , к примеру , в Сирии, где мозаика всевозможных союзов абсолютно непрозрачна, неясно , кто с кем объединяется и отчего . То же самое случается и в прочих регионах, задевая крупнейших игроков, которые перестали соблюдать принцип баланса сил. В американских журналах нынешнюю ситуацию соотносят с периодом перед заключением Вестфальского мира.
— Вестфальский мирный договор 1648 года стал первым договором в Европе, который сформулировал принцип баланса сил после Тридцатилетней войны.
— Польша, хотя она была немалым , самостоятельным государством, участия в нем не принимала.
— Мы переживали тогда наш золотой или, по меньшей мере, серебряный век.
— Однако наше отсутствие в Вестфалии оказалось оплошностью , сигналом, что мы очутились вне главного потока европейской политики. А теперь , как считают американские специалисты , мы возвращаемся в предвестфальскую эру.
 — То есть к конфликтам всех со всеми, которые были свойственны Тридцатилетней войне?
— То есть к конфликтам всех со всеми, которые были свойственны Тридцатилетней войне?
— К войне — нет, скорее, к некоторой напряженности. Но хаос может оказаться сопоставимым.
— Тридцатилетняя война стала следствием того, что веком ранее случилась Реформация. Возникли новые конфессии, отмежевавшиеся от Ватикана, а напряженность, возникшая между старым и новым, привела к вспышке конфликтов. Что сегодня стало тем элементом, который, как Реформация в XVI веке, низвергает старое мироустройство?
— Новые люди, прибыли в Европу из-за пределов либерального мира. Это неотвратимо , они у нас останутся. В том числе в Польше. Желаем мы этого или нет, через десять лет в нашей стране будут жить около несколько десятков, возможно даже несколько тысяч мигрантов. Столкнутся два мира друг с другом. С одной стороны будут люди, которые помнят либеральный порядок, который довольно долго существовал в Европе, и который мы, в принципе, полюбили, а с другой — люди с совершенно другими традициями и другой религией. В каком-то роде варвары. Это будут не только мусульмане. Мы все время говорим об исламе, но ведь нас ожидает также волна мигрантов из Черной Африки: часто они исповедуют христианство, однако так же часто неведомо , кто они на самом деле. Сэмюэль Хантингтон (Samuel Huntington) был прав: нас ожидает сражение цивилизаций.
— Хантингтон изображал границы отдельных цивилизаций, основываясь на идее, что напряженность зародится именно там.
— Однако она возникнет также внутри Европы, так как европейцы пустили на свою территорию представителей другой цивилизации. Такой, с которой очень сложно даже наладить контакт. А когда невозможно говорить , исчезает вся сила либерализма, поскольку его фундамент — это разговор. Когда он отсутствует, возникает дикость. Подобная той, что была во время Тридцатилетней войны, когда католики не могли договориться с протестантами. Сейчас совершается нечто аналогичное . Толерантность снова пропадает .
— Толерантность давно стала в Европе пустым лозунгом, синонимом равнодушия . Сложно быть терпимым к другим, если отсутствуют собственные ценности, которые мы намерены отстаивать .
— Я изображаю это в своей книге «Лучше уже было» и добавляю, что не стоит надеяться на изменение положения дел. У меня есть такое ощущение , словно тот мир, который нам удалось воздвигнуть за последние 70 спокойных лет, подходит к концу. Польше удалось воспользоваться только частью этих чудесных лет развития и благосостояния. Однако данный период завершается , возникнет нечто новое.
— Что это будет?
— Вначале большая путаница . Она будет длиться от трех до тридцати лет, но, я полагаю , ближе к 30. Из этого беспорядка появится новый порядок. Возникнет какая-то сила, которая вознесется над прочими и сызнова все упорядочит. Однако кто это будет? Какого рода порядок она устроит? Этого мы сейчас совершенно не ведаем .
— На предыдущей неделе я разговаривал с профессором Анджеем Зильбертовичем (Andrzej Zilbertowicz). Он изображает ситуацию приблизительно , как вы. И выдвигает тезис, что этот хаос может привести к концу демократии и возвращению авторитаризма. В качестве лекарства он предлагает Великое замедление — торможение процессов, которые генерируют сейчас хаос. Можно ли это сделать?
 — Я бы говорил не о конце демократии, а, скорее, о конце либерализма. Это разные вещи. Более или менее показные демократические режимы продолжат существование. Они, очевидно , будут выглядеть, как режим в Турции, но ведь мы продолжаем называть ее демократической страной. В Польше у нас тоже до сих пор демократия, но многие принципы правового государства нарушаются. Между тем нам будет угрожать отсутствие уважения к другому человеку. Это может вскоре создать сильный взрыв. Знакомые рассказывают мне, что в США стало почти, как в Польше.
— Я бы говорил не о конце демократии, а, скорее, о конце либерализма. Это разные вещи. Более или менее показные демократические режимы продолжат существование. Они, очевидно , будут выглядеть, как режим в Турции, но ведь мы продолжаем называть ее демократической страной. В Польше у нас тоже до сих пор демократия, но многие принципы правового государства нарушаются. Между тем нам будет угрожать отсутствие уважения к другому человеку. Это может вскоре создать сильный взрыв. Знакомые рассказывают мне, что в США стало почти, как в Польше.
— В каком плане?
— В плане политической напряженности. Когда американская семья собираетсямза праздничным столом, она уже не может начать разговор о политике, это закончится дракой. Как у нас. Впрочем, похожие явления наблюдаются во Франции, там царит вообще полная неразбериха. Как перед войной. После войны Шарль де Голль смог стабилизировать страну, но сейчас все стабилизационные элементы дали трещину. Люди конфликтуют друг с другом на почве всего, и никто не может это прекратить. Даже если Николя Саркози одержит победу над Марин Ле Пен на президентских выборах, справиться с этим хаосом он не сумеет.
— Решения еще нет, но французские правые, скорее, выставят на выборы не Саркози, а Алена Жюппе (Alain Juppé).
— Это вероятно. Так или иначе следующим президентом, скорее всего, станет кандидат от этой партии. Хотя лишать шансов Ле Пен тоже не стоит. Такие события, как недавний теракт в Ницце только усиливают ее позицию.
— Зильбертович говорит о Великом замедлении — торможении таких процессов, как глобализация, технологический прогресс, которые подстегивают современный хаос. Как вы оцениваете такую перспективу?
— Невозможно остановить грозу. Равно как и глобальные процессы.
— Зильбертович считает, что это могут сделать такие силы, как, например, Бильдербергский клуб.
— Это ерунда и типичный для Зильбертовича поиск теорий заговора. Социальные сети невозможно остановить. Ведь как это сделать, при помощи цензуры? Нынешнюю волну не остановить. Не существует такой силы, которая способна принять такое решение. Вы знаете где-то такое мудрое правительство, которое сумеет это сделать? Рассуждать в подобных категориях, значит, выдавать желаемое за действительное, не более того.
— Нужно искать какие-то решения. Раз мы умеем сформулировать проблему, мы должны найти выход.
 — Пожалуйста, не посчитайте меня, пожалуйста катастрофистом, так как я к ним не принадлежу. Я не говорю, что все рухнет в том смысле, что появятся варвары и сожгут все наши города. Но произойдут сильные перемены. И эти перемены будут к худшему. Просто закончатся деньги. Последние десятилетия были такими благополучными и удачными в том числе потому, что этих денег было достаточно. Сейчас они заканчиваются. А когда они совсем закончатся, случится окончательный кризис. Свою лепту внесут в него мусульмане, которые стремятся в Европу, потому что уровень жизни у нас намного лучше, чем у них на родине. Если взглянуть чисто по-человечески, я, конечно, их мотивы понимаю.
— Пожалуйста, не посчитайте меня, пожалуйста катастрофистом, так как я к ним не принадлежу. Я не говорю, что все рухнет в том смысле, что появятся варвары и сожгут все наши города. Но произойдут сильные перемены. И эти перемены будут к худшему. Просто закончатся деньги. Последние десятилетия были такими благополучными и удачными в том числе потому, что этих денег было достаточно. Сейчас они заканчиваются. А когда они совсем закончатся, случится окончательный кризис. Свою лепту внесут в него мусульмане, которые стремятся в Европу, потому что уровень жизни у нас намного лучше, чем у них на родине. Если взглянуть чисто по-человечески, я, конечно, их мотивы понимаю.
— Но мы живем в Европе и мы должны реагировать, чтобы защитить собственные интересы. Как нам это делать?
— Во-первых, надо смотреть на проблемы в большой временной перспективе. Мыслить не в категориях ближайшего саммита ЕС, а на 20, 30 лет вперед. Но кто это может сделать? Политическая философия увяла, как и, впрочем, сама политика. У Уинстона Черчилля, Шарля де Голля было представление о Европе на много лет вперед. Сейчас политиков сопоставимого класса мы не видим.
— Ничто так не помогает выстроить приоритеты, как точное определение противника . Но у нынешней Европы нет никакого врага . Вероятно , врагами надлежит считать варваров, которые стоят у наших ворот?
— Да, в какой-то мере. Но мы не можем создать идею врага - в рамках нашей христианской либеральной культуры. Тем более им не может стать другой человек только из-за того, что он исповедует другую религию или выходит из иного цивилизационного круга.
— Между тем эти представители другой цивилизации несут нам физическую опасность.
— Это не тот масштаб. Последние теракты — мелочь по сравнению, например, с войнами, которые Запад неумело вел в Азии. 84 погибших в Ницце — это очень мало на фоне тысяч жертв войны в Ираке или Афганистане.
— Дело не только в количестве жертв. Важно также то, что мы все чаще оказываемся жертвами атак на своей территории. Европе грозит физическая опасность.
— В европейской традиции нет ничего такого, что можно было бы представить как ответ на подобную угрозу. Конечно, если не учитывать традицию, которую создали такие диктаторы, как, например, Сталин. Отчетливо видно, что идей, как реагировать на эту ситуацию, нет.
— Идею предложил Лоуренс Саммерс (Lawrence Summers) — бывший директор Национального экономического совета США. На прошлой неделе он написал статью в Financial Times, в которой выдвинул концепцию «ответственного национализма». Это может стать подходящим ответом?
 — Если пойти по такому пути, можно сказать, что лекарством станут «ответственные диктатуры» или даже возвращение к просвещенному абсолютизму. Несомненно , подобный абсолютизм был бы лучше, только при условии, если бы он был возможен. Но в демократии это не получится.
— Если пойти по такому пути, можно сказать, что лекарством станут «ответственные диктатуры» или даже возвращение к просвещенному абсолютизму. Несомненно , подобный абсолютизм был бы лучше, только при условии, если бы он был возможен. Но в демократии это не получится.
— Ответственный национализм в версии Саммерса не исключает демократии. Разница заключается в основном в расстановке акцентов, отказе от риторики глобализации и мира без границ.
— Но как создать подобный национализм? Конечно, я понимаю , что разделение на народы неустранимо, оно будет существовать еще очень долго.
— Но в Европе продолжительное время нельзя было использовать язык, отсылающий к национальной гордости, любви к отчизне. Может быть, пора к нему вернуться?
— Конечно, к национализму в Европе относятся плохо, но о причинах, почему его отодвинули на задний план, говорить, пожалуй, излишне. Трудно представить, что он вернется. По двум причинам. Во-первых, отказ от разговоров о теме народа как элемента политической культуры и общественной жизни — это наследие травмы, какой оказался нацизм. Во-вторых, сейчас появляется все больше националистов, но они находятся на очень низком интеллектуальном уровне, их предложения выглядят гораздо более пустыми, чем, например, предложения националистов рубежа XIX–XX веков. До войны во Франции национализм был де-факто более сильной версией республиканства.
— К этому также отсылал де Голль, когда формулировал свою концепцию Европы наций.
— Де Голль умел остаться в рамках парадигмы старых определений, одновременно приспосабливая их к современности. В наше время никто этого делать не умеет. Сложно опираться сейчас на национализм без элементов ксенофобии.
— У национализма есть одно неоспоримое преимущество — он простой. В современном сложном мире, в котором все большему числу людей трудно угнаться за переменами, отсылка к знакомым, привычным схемам обладает очень большой силой воздействия.
— Я бы поддержал концепцию Европы наций, если бы ее можно было воплотить в жизнь. Но подобная Европа — фикция. В первую очередь потому, что современный национализм, питающийся ненавистью и агрессией, в нее вписать нельзя.
— На самом ли деле? Ведь это более широкое понятие.
— Польская история, польская стихия для меня очень важны. Это дает мне чувство принадлежности к общности, действует на воображение. У меня были возможности уехать за границу и намного больше зарабатывать, но я этого стал делать, потому что не захотел: в первую очередь потому, что я был привязан к чему-то, что трудно описать, но что мы называем польским. Но это ощущение очень сложно поддерживать. В этом как раз заключался гений де Голля: он умел опираться на идеи республики, концепцию Великой Франции, не разжигая при этом ненависть. Но это было возможно только после компрометации, какой оказалась для Франции Вторая мировая война. Потому теперь повторить это нереально .
— Война была слишком давно, чтобы на нее ссылаться?
— Нет, в первую очередь из-за перемен, которые описал Эрик Хобсбаум (Eric Hobsbawm). Он первым указал на то, что сейчас практически полностью исчез класс крестьянства, а люди, которые прежде его составляли, влились в современную культуру. В итоге действительность сильно упростилась, так как послание нужно было сделать понятным для адресатов. С таким обществом ничего нельзя предпринять. У каждого есть мобильный телефон, новая машина, а с другой стороны — это дикие люди, но которые живут среди нас.
— Эти люди уже существуют, значит, необходимо найти способ до них достучаться. Сформулировать главные слова, которые окажутся для них понятными. У отсылок к национализму, по мнению Саммерса, такой шанс как раз есть. По крайне мере этих шансов больше, чем у лозунгов об углубленной европейской интеграции.
 — Я соглашусь, но до сих пор эффективно применить эти лозунги не получалось. Напомню, что подобными мотивами руководствовался Роман Дмовский (Roman Dmowski), но плодов это не принесло.
— Я соглашусь, но до сих пор эффективно применить эти лозунги не получалось. Напомню, что подобными мотивами руководствовался Роман Дмовский (Roman Dmowski), но плодов это не принесло.
— Это было до войны. Вероятно, память о преступлениях Третьего рейха может удержать современный национализм от пересечения границ цивилизованных действий? Или такая игра несет слишком много риска?
— Это нереально сделать просто так. Сначала необходимо создать мифы, к которым можно обратиться. В начале XX века Дмовский хотел построить систему образования, чтобы поднять цивилизационный уровень общества, чтобы поляки стали народом, способным побороться за свою позицию на фоне других народов. Сейчас такое сделать нет шансов. И это один из признаков современной Европы: она утратила способность создавать мифы.
— Утратила? Ведь у нас есть великие европейские истории, начать можно с «Илиады».
— Разумеется, но современных европейцев они абсолютно не интересуют. Они ничего не читают, не стремятся углубить свои знания, у них такая потребность отсутствует.
— А миф 1990-х, лучшего десятилетия в истории послевоенной Европы?
— У него отсутствует четкая эмблема, с которой можно связать этот миф. В Польше материал для мифа есть — это романтизм. Он всегда был живым. Его немного обкроили в эпоху позднего коммунизма, а позже отодвинули на второй план такие люди, как Дональд Туск или Ангела Меркель, которые всегда считали романтизм безумием и ставили на первое место прагматизм.
— Но что можно выстроить вокруг романтизма? Пожалуй, лишь новое восстание.
— Не соглашусь с васм. Романтический миф может стать фундаментом для создания сильного государства. Об этом говорил хотя бы Юзеф Пилсудский (Józef Piłsudski). Романтизм — важная часть польского духа, он сильно в нем укоренен. Сейчас эпоха людей, которые мыслят, как Туск, Меркель и сотня других подобных им политиков, проходит. Эпоха, в которую первую скрипку играли политические поденщики, люди, которые не способны на создание каких-либо идей, уходит в прошлое. А романтизм обладает таким преимуществом, что на его основе можно строить чувство общности.


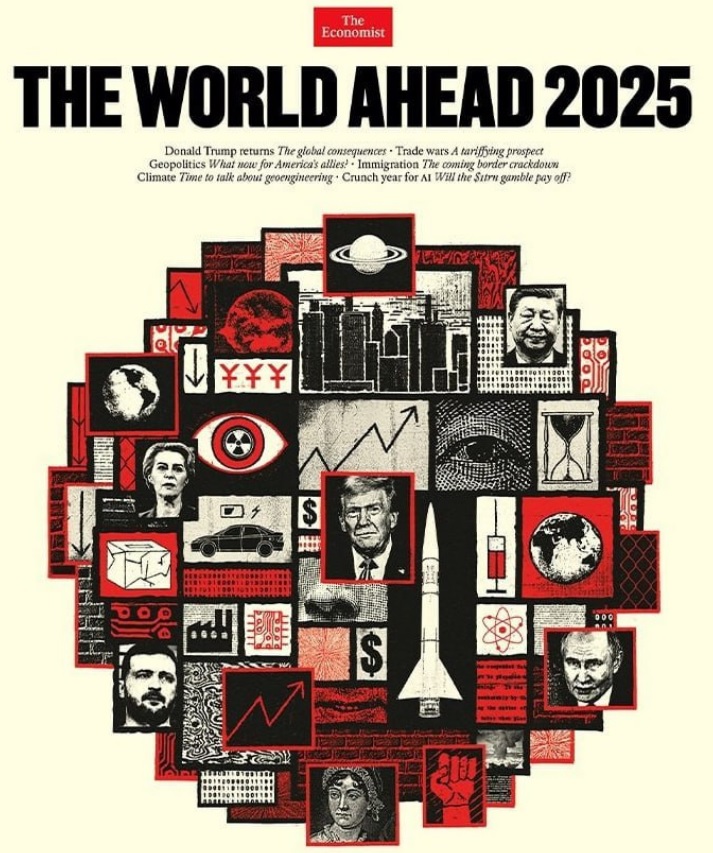
















Комментарии (0)