
Мы публикуем доклад руководителя Научного направления "Политическая экономия и региональное развитие"Института Гайдара Ирины Стародубровской и старшего научного сотрудника Института Гайдара Константина Казенина, посвященный ситуации на Северном Кавказе. Доклад 14 января 2014 года представляется на заседании Комитета гражданских инициатив.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Доклад «Северный Кавказ: quo vadis (куда идешь)?» адресован в первую очередь не тем, кто профессионально занимается проблемами этого региона. Специалисты по Северному Кавказу вряд ли найдут здесь что-то принципиально новое. Он написан для тех, кто, не изучая данный предмет специально, искренне стремится разобраться в том, что происходит в этом сложном, неоднозначном и во многом непонятном для среднего россиянина регионе. Поэтому наша задача состояла в том, чтобы, не уходя в детали, дать общее представление о тех реальных, а не мифических процессах, проблемах и развилках политики, которые существуют на Северном Кавказе. Вторым адресатом данной работы являются лица, принимающие решения по вопросам северокавказской политики. В докладе обосновываются подходы, во многом альтернативные реализуемым в настоящее время в ее рамках, и мы хотели бы, чтобы наши аргументы были услышаны.
Данный доклад является результатом многолетних исследований авторов на Северном Кавказе. Причем о ситуации в регионе мы знаем не понаслышке. В докладе используются различные источники: теоретические работы, обобщения международного опыта, находящиеся в открытом доступе нормативно-правовые и аналитические материалы, информация СМИ, статистика – но в первую очередь это собственные полевые исследования авторов. За время работы подобные исследования охватили более сотни городов и сел в различных северокавказских регионах. В основном они проводились в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. По остальным регионам информация черпалась из общедоступных источников.
Нашими собеседниками были самые разные люди – политики и журналисты, ученые и чиновники, религиозные и общественные деятели, главы районов и сел, учителя и фермеры, мужчины и женщины, пожилые люди и молодежь. К сожалению, здесь нет возможности упомянуть каждого индивидуально, но мы выражаем глубокую и искреннюю благодарность всем, кто содействовал нам в наших исследованиях, находил время и силы помочь разобраться в непростых кавказских реалиях, а часто еще и предоставлял нам стол и кров. Хотелось бы отметить, что где мы ни были и с кем бы ни общались – а среди наших собеседников были люди самых разных национальностей, религиозных и политических взглядов – везде мы находили искреннюю доброжелательность, заинтересованность, уважительное отношение и истинно кавказское гостеприимство. Исключения были столь редки, что только подтверждают правило.
ВВЕДЕНИЕ: КРИЗИС НАЗРЕЛ?
Прошло четыре года с момента того поворота в осмыслении проблем северокавказских республик, который во многом определяет текущую политику в этом регионе. Тогда было признано, что Северный Кавказ – это особая территория, и управлять ею необходимо специфическими методами. В январе 2010 г. был создан Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Полномочный представитель Президента РФ в округе был наделен полномочиями заместителя Председателя Правительства РФ. В сентябре 2010 г. была утверждена Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г., а в декабре 2012 г. – государственная программа развития СКФО.
Конечно, для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию в столь сложном и конфликтном регионе, прошедшие годы – это не срок. Тем не менее, имеет смысл оценить первые результаты, складывающиеся тенденции и понять, идет ли движение в правильном направлении, продолжается ли топтание на месте, либо мы находимся все дальше от решения тех проблем, которые и определяют специфику региона. Анализ показывает, что ситуация весьма противоречива, а наметившиеся тренды вряд ли можно считать однозначно позитивными.
Стратегия СКФО предполагала реализацию в 2010-2012 гг. первого этапа, в рамках которого должны были быть созданы условия для дальнейшего развития округа, улучшен инвестиционный климат, запущены наиболее значимые инвестиционные проекты. С 2013 г. предполагалось начать активное привлечение частных инвестиций. Очевидно, что пока успехи в реализации Стратегии достаточно умеренны. Как показывает График 1, тренды подушевых инвестиций России в целом и СКФО продолжают расходиться, т.е. отставание СКФО по этому показателю увеличивается. Причем доля бюджетных инвестиций в целом по СКФО в 2012 г. почти в 3 раза превышала среднероссийскую, а по регионам восточной части Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) колебалась от 70 до 95%. По многим другим экономическим показателям формально быстрые темпы роста по отношению к низкой базе также скрывают сохранение либо чрезвычайно медленное преодоление отставания от среднероссийских показателей[1]. В то же время, уже выявились негативные последствия реализации Стратегии: усиление конфликтности, связанной с распределением выделенных на модернизацию ресурсов (финансовых, земельных и т.п.); недовольство местных сообществ; коррупционные скандалы, связанные с деятельностью ответственных за реализацию Стратегии структур.
Само по себе отсутствие принципиальных экономических сдвигов не является серьезной проблемой – действительно, прошло еще слишком мало времени. Гораздо более значимо то, что не наблюдается улучшения инвестиционного климата в регионе ни с точки зрения гарантий прав собственности и соблюдения контрактов, ни с точки зрения физической безопасности. Более того, реализация Стратегии сопровождается ростом земельных конфликтов. Это было вполне предсказуемо, поскольку большинству северокавказских республик свойственна общая неопределенность прав на землю, связанная с блокированием проведения земельной реформы и мораторием на оборот земли. Подобные конфликты еще более ухудшают и так чрезвычайно плохой инвестиционный климат. Надеяться в этих условиях, что в регион действительно придут реальные инвесторы, вряд ли приходится.
В отличие от экономической сферы, государственная политика в отношении таких принципиально важных для улучшения инвестиционного климата факторов, как борьба с терроризмом, решение земельных конфликтов, отношение к внутриисламскому противостоянию, публично не формулировалась. Тем самым не были обозначены ни стратегические ориентиры в данных сферах, ни пути их достижения. Единственный документ общероссийского уровня, который был принят в последнее время и имел прямое отношение к северокавказской проблематике – это Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. Однако его не представляется возможным рассматривать как «руководство к действию» по решению проблем Северного Кавказа по двум причинам. Во-первых, сам документ носит достаточно абстрактный характер, не формулирует реальных развилок национальной политики и не осуществляет выбор из альтернативных вариантов. Во-вторых, результаты проводимых исследований показывают, что этнические конфликты в решающей степени являются отражением борьбы за ресурсы и статусы, тем самым их решение зависит в первую очередь от урегулирования проблем собственности на землю, изменения механизмов формирования политических элит и функционирования «вертикальных лифтов»[2].
На практике применительно к вопросам политики, выходящей за рамки социально-экономической сферы, проявляется две тенденции. Либо государство вообще игнорирует наличие проблемы и не стремится к ее системному решению, как в случае все обостряющихся в ряде республик земельных конфликтов. Либо различные уровни государственной власти, разные государственные органы проводят нескоординированную и часто противоречивую политику, которая может претерпевать резкие колебания в зависимости от кадровых изменений. Подобная ситуация характерна в первую очередь для антитеррористической деятельности, где роль четкого целеполагания и скоординированная работа различных структур особенно важны.
Негативную роль играет также то, что принимаемые в рамках СКФО решения не опираются на анализ результатов предшествующих действий, их вклада в достижение поставленных целей. Так, принятая более чем через два года после утверждения Стратегии Государственная программа развития СКФО включает лишь описание созданных за этот период механизмов реализации Стратегии, но не содержит критического анализа первых результатов воплощения в жизнь выбранных в ней подходов к модернизации Северного Кавказа, которые достаточно неоднозначны. Резкие колебания курса в сфере антитеррора также не предварялись серьезным обсуждением полученных в рамках предшествующей политики результатов. Поэтому нет никакой гарантии, что «пожар не тушится керосином» и что предпринимаемые меры не уводят нас все дальше от поставленных целей.
При этом, если в большинстве сфер за последние три года либо не достигнуто серьезных позитивных изменений, либо наметились негативные тенденции, есть одна область, где ситуация ухудшилось кардинально. Это – имиджевый кризис Северного Кавказа. Если раньше основные опасения вызывали реальные или мнимые сепаратистские настроения в северокавказских регионах, то сейчас основная проблема – это антикавказские настроения в самой России. Лозунг «Хватит кормить Кавказ!», формирующееся общественное мнение в пользу желательности отделения северокавказских республик на фоне усиления ксенофобии и антимигрантской истерии – все это демонстрирует не только провал в сфере пиара, но и реальную неэффективность существующих механизмов интеграции северокавказских республик в российский социум. Хотя на первый взгляд кажется, что внутренняя политика в рамках СКФО не имеет прямого отношения к резкому росту антикавказских настроений, в дальнейшем будет показано, что это не так. Имиджевый кризис Северного Кавказа в России столь же явно демонстрирует неэффективность используемых инструментов государственной политики, как и рост конфликтности земельных отношений, отсутствие явных успехов в антитеррористической деятельности или коррупционные скандалы в государственных корпорациях, занимающихся развитием региона.
Подобная ситуация не может не внушать опасений. Представляется, что для осуществления такой политики на Северном Кавказе, которая могла бы действительно привести к позитивным изменениям в регионе, необходимо вернуться к «истокам» - оценить реальность темпов модернизации, пересмотреть приоритеты экономического развития, выработать четкую стратегическую линию в борьбе с терроризмом, отработать механизмы разрешения конфликтов. Причем сделать все это открыто, с привлечением экспертных кругов и северокавказского гражданского общества.
Но прежде, чем предлагать средство лечения болезни, необходимо определиться с диагнозом. В чем же специфика Северного Кавказа по сравнению с другими российскими регионами? Почему, несмотря на постоянный поток средств из федерального бюджета, во многих республиках мы не видим не только серьезных экономических прорывов, но и зримого улучшения ситуации? Почему зашкаливают уровень конфликтности и масштабы применения насилия? Почему поведенческие нормы и ценности северокавказского социума столь существенно отличаются от привычных нам?
Нетрудно воспроизвести ту логику ответов на эти вопросы, которая лежала в основе принятых на государственном уровне подходов к развитию региона. Северный Кавказ – это отсталое, архаичное общество с депрессивной экономикой и высокой безработицей. Бедность и безработица – причины того, что радикальные исламские идеи, внедряемые в регион из-за рубежа, находят благодатную почву. Тем самым модернизация экономики, создание новых рабочих мест позволят убить сразу двух зайцев – обеспечат более динамичное развитие региона и подорвут базу экстремизма и терроризма, особенно в сочетании с активными силовыми действиями по подавлению радикалов. Но внутренних ресурсов накопления и инвестирования в бедных, депрессивных регионах нет, поэтому необходимо привлечь инвесторов со стороны. А чтобы внешние инвесторы пошли в регион со столь серьезными проблемами, необходимо обеспечить им масштабную поддержку государства, позволяющую страховать неизбежные риски.
Можно спорить, насколько предлагаемые в Стратегии развития СКФО меры могли бы существенно улучшить ситуацию, если бы данный диагноз соответствовал действительности. Однако суть проблемы состоит в том, что исследования, проводимые на Северном Кавказе как Институтом экономической политики им. Е.Т.Гайдара и Российской Академией народного хозяйства и государственной службы, так и другими исследователями, показывают, что диагноз не верен. Наши исследования позволяют дать ситуации на Северном Кавказе совсем другое объяснение.
1. Северный Кавказ не является архаичным, застойным, глубоко традиционным обществом. Напротив, это общество, в котором происходит резкие сдвиги, активные трансформационные процессы. Резко меняются демографические тренды – на некоторых территориях рождаемость при смене поколения упала в 2-3 раза. Идет миграция горцев на равнину, сельские жители стекаются в города. Модернизируется быт, глобализуется информационное пространство. Все эти процессы характерны для этапа, свойственного истории любой территории, а именно для этапа разложения традиционного общества, этапа модернизации. Англия прошла подобный период в XVII-XVIII веках, в центральной России он начался с отменой крепостного права. Северный Кавказ переживает этот период сейчас.
Дело в том, что регионы Северного Кавказа к октябрю 1917 г. представляли собой гораздо более традиционное общество, чем подавляющее большинство других российских регионов, где уже достаточно интенсивно шел процесс модернизации. Советская власть во многом законсервировала традиционную систему, внеся в нее некоторые коррективы, но в целом не подорвав ее институциональных основ. Активное разложение традиционного общества под влиянием резкой социальной трансформации, перехода к рыночной экономике, глобализации началось в этом регионе лишь в постсоциалистический период. Поэтому Северный Кавказ сегодня – это не застой и не архаика, Северный Кавказ – это общество на переломе.
Ни в одной стране мира переход от традиционного к современному обществу не протекал спокойно и безболезненно. Разрушение прежних ценностей и механизмов контроля в условиях, когда альтернативная система норм и регуляторов поведения еще не устоялась и недостаточно эффективна, приводит к фрагментации общества, отсутствию общепринятых «правил игры», потере ориентиров[3]. Особенно сильно это затрагивает молодое поколение. В то же время разложение традиционного общества впервые легитимизирует межпоколенческий конфликт, который в силу своей непривычности проявляется в особенно острых формах. Поэтому для любого социума в этот период характерны острые конфликты, широкие масштабы применения насилия. Это обусловлено как столкновением «старого» и «нового» (причем и то, и другое черпает свою легитимность в существующих в обществе конфликтных нормах), так и промежуточным состоянием между «старым» и «новым», в котором оказывается значительная часть населения.
На Северном Кавказе ситуация еще более осложнилось тем, что кризис традиционного общества совпал с разрушением городской протокультуры, активно складывавшейся в позднесоветское время и носившей вполне модернизационный характер. Массовый выезд русского, а также образованного местного населения из кавказских городов в 1990-е годы, активная миграция сельского населения, быстрое разрастание городов – все это привело к тому, что город не успевал «переваривать» село, и село стало «переваривать» город. Представляется, что подобная ситуация прекрасно описывается метафорой, используемой применительно к российским городам периода советской индустриализации: «общество зыбучих песков», где село засасывает город[4]. Очаги не только материальной, но и культурной модернизации были погребены под этими песками. Сейчас можно наблюдать отдельные признаки складывания городской среды и формирования новой городской культуры в некоторых крупных северокавказских городах, хотя не во всех и в разной степени.
2. Северный Кавказ не является обществом с депрессивной экономикой и поголовной бедностью. На самом деле, ситуация существенно различается на разных территориях. Наряду с местами, где землю о сих пор обрабатывают плугом на волах (правда, уже почти не осталось тех, кто ее там обрабатывает), есть очаги активного развития товарного сельского хозяйства как в рамках официальной, так и теневой экономики. Есть процветающие горнолыжные курорты, современные промышленные предприятия. Производство в неформальном секторе далеко не всегда бывает отсталым, кустарным. В то же время занятость в неформальном секторе не рассматривается населением как «работа». Даже если неформальная экономика дает достаточно крупные доходы[5], занятые в ней считают себя безработными. Причина – не только в традиции, но и в нерегулярности и неопределенности теневых заработков, для которых часто характерна сезонность и полная зависимость от непредсказуемой рыночной конъюнктуры, а также в отсутствии социальных гарантий.
Уровень доходов северокавказского населения можно оценить, ориентируясь на типичные расходы, которые приходится нести практически любому домохозяйству. Наряду с удовлетворением первоочередных потребностей, они включают: коррупционные издержки на образование и устройство на работу детей (измеряемые в сотнях тысяч рублей); траты на обеспечение детей жильем, на свадьбы и похороны. Во многих сообществах к свадьбе родители жениха должны обеспечить сыну дом, а родители невесты – обстановку. В последнее время достаточно часто мужчины, вступающие в брак, берут эти расходы полностью или частично на себя. Распространено приобретение недвижимости в столице «своего» региона или даже за его пределами. Все это очень мало напоминает бюджет, характерный для домохозяйств с высоким уровнем бедности. Основные источники дохода – неформальная приусадебная экономика или другой мелкий бизнес, отходничество (сельскохозяйственные работы в южных российских регионах, работа в торговле, на стройках в крупных городах), заработки на нефтегазовых месторождениях в Сибири. Широкое распространение получило также такое уродливое явление, как получаемые за взятки «липовые» инвалидности, пенсии и т.п.
Тем самым представление об отсутствии внутренних источников накопления в северокавказском обществе не соответствует действительности. Проблема в другом – эти средства тратятся на непроизводительное престижное потребление, а не на развитие экономики. Причины тоже достаточно понятны – незащищенность прав собственности, тотальная коррупция, искусственная монополизация рынков. Конечно, влияние традиций тут тоже сказывается, но не они играют первостепенную роль.
3. Население на Северном Кавказе не является социально пассивным. В регионе действуют различные общественные движения: национальные, правозащитные, религиозные. В Дагестане сохраняются независимые СМИ, причем в условиях, когда крупные оппозиционные журналисты регулярно становятся жертвами террористических актов. Общественная активность в различных формах – митинги, демонстрации, публикации в прессе – воспринимаются как легитимный способ доведения своих интересов и потребностей до власть предержащих. Общественные движения начинают взаимодействовать для достижения общих интересов даже в тех случаях, когда по отдельным вопросам они придерживаются противоположных позиций. Можно сказать, что гражданское общество на Северном Кавказе является более активным и зрелым, чем в подавляющем большинстве российских регионов.
Безусловно, социальная пассивность в определенной мере характерна как для населения в целом, так и для северокавказской молодежи. Ощущение неспособности что-то изменить в своей жизни, нежелание брать на себя ответственность – достаточно распространенные настроения в северокавказском социуме. Но в то же время для молодого поколения характерен активный поиск новых символов и смыслов взамен не отвечающих потребностям времени и отвергаемых в рамках межпоколенческого конфликта ценностей традиционного общества. Попытки ответить на глобальные мировоззренческие вопросы в рамках такого поиска – одна из отличительных черт духовной жизни северокавказского социума, хотя, очевидно, это характерно в первую очередь для достаточно ограниченных групп городской молодежи.
Способна ли государственная политика по отношению к Северному Кавказу, сложившаяся за последние три года, адекватно реагировать на трансформационные процессы такой степени сложности, смягчая свойственные им конфликты и усиливая модернизационые тенденции? Дальнейший анализ отдельных направлений этой политики позволит дать более полный и аргументированный ответ на этот вопрос.
1. КРИЗИС «МОДЕРНИЗАЦИИ СВЕРХУ»
Во Введении уже шла речь о подходах к модернизации экономики Северного Кавказа, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития СКФО до 2025 г. В рамках оптимального сценария в Стратегии предусматривались следующие целевые показатели:
• создание не менее 400 тыс. рабочих мест, сократив уровень безработицы до 5%;
• обеспечение темпов роста ВРП в 7,7%, промышленности – 10,1%;
• повышение в 4 раза доходов консолидированных региональных бюджетов на душу населения;
• рост средней заработной платы с 9,6 тыс. до 23,8 тыс. руб. в месяц;
• сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 16,5 до 9,2%.
Реализация Стратегии стала осуществляться с помощью следующих инструментов.
1. Создание крупных государственных корпораций. Для реализации Стратегии были сформированы ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) в форме дочерней структуры Внешэкономбанка с уставным капиталом 500 млн. рублей и ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) в форме дочерней структуры ОАО «Особые экономические зоны» с участием Внешэкономбанка и Сбербанка России с уставным капиталом 5,35 млрд. рублей. Планируется также, что другие крупные государственные корпорации будут осуществлять проекты на территории СКФО в соответствии с профилем своей деятельности.
2. Предоставление государственных гарантий инвесторам, готовым вкладывать средства в северокавказские регионы. Отбор проектов, претендующих на получение государственных гарантий, осуществляется Министерством регионального развития РФ, которым с этой целью была создана Межведомственная инвестиционная комиссия. Объем государственной гарантии может составлять до 70% суммы кредита, привлекаемого инвестором на срок от 3 до 10 лет. В 2012 г. на реализацию данного направления было выделено 50 млрд. рублей, на 2013 г. – 100 млрд. руб.
3. Принятие Государственной программы «Развитие СКФО до 2025 г.» в конце 2012 г. Программа упорядочила различные направления государственной экономической политики на Северном Кавказе, обозначила финансовые ориентиры и целевые показатели. Бюджетное финансирование на первые два этапа реализации госпрограммы – 2013-2020 гг. – определено в размере примерно 235 млрд. руб., при этом на каждый рубль бюджетных средств планируется привлечь 9 рублей инвестиций. Решение о выделении бюджетных средств на последующие два этапа будут определены по результатам реализации начальных этапов госпрограммы.
Рассмотрим более подробно первые итоги проводимой политики. На основе имеющейся информации можно сделать вывод, что предлагаемые инструменты так или иначе начали работать. Так, за 2011-2012 гг. для предоставления государственных гарантий отобран 21 инвестиционный проект, КРСК запустила 7 инвестиционных проектов, завершается строительство курорта Архыз. Однако за этот период наметились тенденции, которые не могут не настораживать.
Во-первых, в основном инвестиционные проекты реализуются в тех регионах, которые и так отличаются относительно неплохим инвестиционным климатом, в первую очередь в Ставропольском крае. Так, из семи проектов КРСК четыре - это Ставропольский край, один – это участие в проекте Архыз, и лишь один реализуется в Чечне. В Дагестане под государственные гарантии с участием зарубежных специалистов строится Каспийский завод листового стекла, на этом список также можно считать закрытым. В рамках туристического кластера реализован достаточно локальный проект в Республике Ингушетия, заканчивается строительство первого крупного горнолыжного комплекса Архыз в относительно благополучной Карачаево-Черкесии, по остальным проектам никакого продвижения не наблюдается. Таким образом, инвестиции идут в первую очередь не туда, где ситуация наиболее неблагополучна, а туда, куда можно инвестировать (что, в общем-то, для инвестиций вполне естественно).
Во-вторых, скандал вокруг ОАО «КСК», связанный с увольнением его главы Ахмеда Билалова, на практике продемонстрировал те риски, которые в любом случае связаны с созданием крупных и плохо контролируемых государственных структур: рапорты о грандиозных успехах при отсутствии реальных результатов (как выяснилось, ни одного реального инвестора привлечь не удалось, все ограничивалось протоколами о намерениях), нецелевое расходование средств и т.п.
В-третьих, неурегулированность прав на землю, перспективы конкуренции на рынках, где до этого господствовали местные производители, – все это вызывает рост конфликтов в северокавказских регионах, напрямую связанных с государственными модернизационными программами. Примеры достаточно многочисленны – в Кабардино-Балкарии развертывание современного производства помидор и яблок вытесняет с соответствующих рынков традиционных сельскохозяйственных производителей, в Дагестане проекты строительства птицефабрики вызывают активные протесты местных производителей птицы, развертывание туристического кластера тормозится в том числе и тем, что местное население выступает против, опасаясь потерять свои пастбища.
Проблемы, возникающие при реализации модернизационных проектов, достаточно комплексно видны на примере конфликта в Ногайском районе Дагестана, где предполагалось реализовать проект по строительству сахарного завода. В данной инициативе население увидело сразу несколько угроз.
Во-первых, Ногайский район и так находится в достаточно сложном положении с точки зрения земельной проблемы. Большая часть земель района относится к так называемым землям отгонного животноводства (о них более подробно – в разделе о земле), т.е. используются не коренным населением, а выходцами с гор (даргинцами и аварцами). В этой ситуации приход инвестора воспринимался как способ отобрать последние земли, еще остающиеся в распоряжении ногайского народа.
Во-вторых, строительство завода рассматривалось как способ обеспечения дальнейшей миграции горцев на территорию района в условиях, когда данный процесс и так усиливает конкуренцию за ресурсы. Проект предусматривал создание 15 тыс. рабочих мест. Но, по мнению местного населения, в районе отсутствуют резервы рабочей силы необходимой квалификации в подобном количестве. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что инициатор проекта по национальности – не ногаец.
Наконец, в-третьих, по мнению местного населения, климатические условия в районе не подходят для выращивания свеклы, поэтому сам по себе проект являлся только «прикрытием» территориального захвата горцами ногайских земель.
В результате в ранее спокойном районе был создан новый очаг конфликта. И хотя протесты достигли своей цели – проект был перенесен в соседний район – конфликт зажил собственной, независимой от проекта жизнью, и не очевидно, что на настоящий момент ситуация полностью нормализовалась.
Однако пока выявились лишь краткосрочные проблемы модернизационной политики. Но есть и стратегические вопросы, ответы на которые абсолютно не ясны. В первую очередь они касаются «туристического кластера» - самого масштабного модернизационного проекта на Северном Кавказе.
В октябре 2010 г. в рамках формирования туристического кластера было создано пять туристско-рекреационных особых экономических зон горнолыжной направленности, из них четыре – в Северо-Кавказском федеральном округе (Матлас в Дагестане, Эльбрус-Безенги в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии и Мамисон в Северной Осетии – Алании). В конце 2011 г. было принято решение о расширении территории Северо-Кавказского туристического комплекса в два раза, в частности, о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Республике Ингушетия и на Каспийском побережье. Дальнейшее расширение кластера произошло в октябре 2013 г., когда в него был включен курорт Ведучи в Чеченской Республике. Ожидаемые результаты проекта: создание более 1000 км горнолыжных трасс, свыше 200 канатных дорог, строительство гостиниц, коттеджей и апартаментов различной звездности емкостью около 85 тысяч мест. Проект предполагает поэтапное создание в регионе свыше 330 тыс. рабочих мест. Планируется, что в результате на курортах Северного Кавказа, включая Каспийское побережье, единовременно смогут отдыхать 250 тысяч человек. В соответствии с озвученными оценками, после выхода проекта на полную мощность туристический поток достигнет 10 миллионов человек[6].
Создание туристического кластера вызывает целый ряд вопросов.
1) Откуда возьмется такое количество желающих отдыхать на Северном Кавказе? Даже самые крупные горнолыжные курорты в регионе – Приэльбрусье и Домбай - сейчас единовременно вмещают не более 5-7 тыс. человек в пик сезона каждый, в остальное время они существенно недогружены.
2) Каким образом будут привлекаться туристы в регион, где не обеспечена элементарная безопасность, и уровень насилия экстремально высок? Каковы конкурентные преимущества Северного Кавказа, которые заставят людей мириться с подобными рисками? Пока, как показывает теракт против туристов в Приэльбрусье, механизмы решения данных проблем не выработаны.
3) И, наконец, как скажутся новые объекты на функционировании уже действующих, и вполне успешно, горнолыжных курортов? По нашей информации даже сейчас, когда Архыз еще не введен в действие, инвесторы стали воздерживаться от вложений в близлежащий Домбай, поскольку вполне допускают, что перспектив там нет. Не получится ли так, что конкуренция между старыми и новыми курортами катастрофически скажется на перспективах туристического кластера? Насколько велика вероятность, что старые курорты будут страдать, поскольку там останется лишь наиболее бедная часть туристов, а новые не смогут привлечь достаточно людей и тем самым не будут окупаться?
Таким образом, кризис модели «модернизации сверху» видится в следующем.
1. Предлагаемые в рамках политики модернизации инструменты способны за счет массированной государственной поддержки подтолкнуть реализацию отдельных проектов на тех территориях, где инвестиционный климат и так позволяет осуществлять инвестиции. Однако они не являются панацеей в наиболее проблемных регионах, где риски для инвесторов запредельно высоки. При этом применяемые инструменты сами несут в себе существенные риски, связанные с необоснованностью планов, недооценкой возможных последствий, недостаточным контролем за использованием средств и т.п. Поэтому вряд ли используемая модель способна достичь тех стратегических целей, которые ставятся перед государственной политикой на Северном Кавказе. Собственно, резкое уменьшение объема ресурсов, выделяемых на госпрограмму по Северному Кавказу, а также выделение средств не на весь период ее реализации демонстрируют, что эффективность подобного рода модели вызывает вопросы не только у экспертов.
2. Реализуемая модель модернизации не только не содействует преодолению конфликтности на Северном Кавказе, но, напротив, способствует появлению новых конфликтов и вовлечению в эти конфликты новых групп населения. Игнорирование специфики институциональной среды в период разложения традиционного общества, в частности наличия пересекающихся прав на ресурсы, а также необоснованные представления об отсутствии активной экономической деятельности на Северном Кавказе, а тем самым и собственных интересов местных производителей, приводят к столкновению интересов «модернизаторов» и населения. Недооцениваются также риски выведения из оборота традиционно используемых плодородных земель в результате затопления при строительстве гидроэлектростанций, что в прошлом уже приводило не только к общему росту конфликтности, но и к появлению новых очагов террористической активности. Все это делает процесс экономического развития на Северном Кавказе «внешним» по отношению к населяющим его народам, не способствуют задействованию внутренних ресурсов модернизации, а также провоцирует новые очаги конфликтов, что еще более увеличивает нестабильность и ухудшает инвестиционный климат.
Между тем, проводимые на Северном Кавказе исследования демонстрируют, что на территории республик, но в рамках теневой экономики, есть активно развивающиеся анклавы и кластеры, характеризующиеся достаточно позитивной экономической динамикой, внедрением новых технологий, широкими рынками сбыта. К ним можно, в частности, отнести:
• Высокотоварное производство сельскохозяйственных продуктов местными сообществами: «андийское» мясо, «левашинская» капуста в Дагестане и т.п. Производство осуществляется в крупных масштабах, характеризуется внедрением инноваций (новые сорта, капельный полив, анализ почв, вакуумная упаковка), функции непосредственно производства и сбыта специализированы.
• Производство товаров народного потребления: например, обуви в Махачкале, трикотажных изделий в Карачаево-Черкесии. Производители подобных товаров используют современное оборудование, активно обновляют модельный ряд, участвуют в международных выставках. Произведенная ими продукция поставляется по всей России, часто под чужими брэндами.
• Дистрибьюторские сети по поставке свежего мяса из северокавказских регионов на рынки крупных городов, способствующие подъему животноводства на Северном Кавказе. Особенность данных сетей состоит в том, что скот закупается, перевозится живьем и докармливается в непосредственной близости к рынку сбыта, а затем забивается и свежим поставляется в продажу.
Подобные растущие «снизу» очаги модернизации нельзя недооценивать. Международный опыт демонстрирует, что они могут оказать существенное влияние на экономическое развитие региона. Многие из подобных «очагов» напоминают по своей структуре промышленные округа (industrial districts) – форму модернизации традиционной экономики, в рамках которой совокупность малых предприятий на определенной территории «растет гроздью», сочетая в себе достоинства крупного и мелкого производства, а основой экономического взаимодействия служат соседско-родственные связи, дружеские контакты, персонифицированный обмен информацией, сочетание конкуренции с кооперацией. Особенное распространение промышленные округа приобрели в Италии, причем их рост, позитивно повлияв на северные и особенно центральные регионы страны, в то же время считается одним из немногих эффективных инструментов развития отсталого Юга.
Для преодоления кризиса можно предложить внесение следующих корректив в реализуемую модернизационную модель.
1. Еще раз оценить реалистичность запланированных масштабов и направлений «модернизации сверху» и исходя из этого скорректировать соответствующим образом используемые в ее рамках инструменты и финансовые ресурсы.
2. Включить требования по проведению информационной кампании, учету мнения населения и работе с местными сообществами в условия предоставления государственной поддержки любых проектов, независимо от форм и направлений инвестиций.
3. Определить критерии отказа в предоставлении государственной поддержки в случаи, если проект может существенно нарушить интересы местного населения и негативно повлиять на социальную стабильность на территории его реализации.
4. Разработать условия оказания поддержки местным инициативам как в социальной, так и в экономической сфере, направленным на снятие барьеров к дальнейшему экономическому и социальному развитию с использованием опыта международных финансовых организаций по поддержке местных сообществ.
5. Начать диалог с представителями развивающихся в рамках теневой экономики «промышленных кластеров» об условиях легализации их экономической деятельности и формах государственной поддержки после легализации.
2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КРИЗИС
Земельные споры и конфликты – почти ежедневная реальность Северного Кавказа, особенно некоторых его многонациональных республик. Эти споры и конфликты представляют угрозу для всего региона, поскольку регулярно затрагивают межэтнические отношения, связаны с исторической памятью народов. Кроме того, они усиливают правовую неопределенность вокруг большого количества земель и тем самым дополнительно понижают привлекательность региона для инвесторов. В настоящее время у государства нет системного подхода к земельным вопросам на Северном Кавказе, по большинству земельных конфликтов и по земельной проблеме в целом не видно какой-либо четкой государственной политики. При этом можно утверждать, что именно земля стала сейчас ключевой причиной ухудшения межэтнических отношений в регионе. Об этом можно судить хотя бы по поведению этнических общественных организаций: если в 1990-е годы их больше интересовало распределение чиновничьих постов в северокавказских республиках, то сейчас большинство из них концентрируется в первую очередь на земельных вопросах. С землей было связано большое количество митингов и других протестных акций, а также инцидентов прямого насилия на Северном Кавказе в последние годы. Так кризис в земельной сфере оказывает негативное влияние на общественный климат в целом.
Наши исследования показывают, что земельный кризис на Северном Кавказе имеет как минимум три составные части.
1. Большинство регионов СКФО отказалось от проведения земельной реформы, что привело к значительной социальной напряженности.
о всех республиках Северного Кавказа, кроме Карачаево-Черкесии, не проведена процедура выделения земель сельхозназначения в собственность местным жителям (пайщикам). В настоящий момент фактический отказ от проведения земельной реформы в этих республиках подкреплен региональными мораториями на приватизацию сельхозземель. В отличие от большинства регионов РФ, на Северном Кавказе сельское население оказалось фактически выброшенным из земельных отношений. Сельчанам доступна только аренда земли, но и этот доступ связан с серьезными проблемами. Большинство земель находится в ведении различных хозяйственных структур (ГУПов. МУПов, СПК и т.д.), которые могут предоставлять участки в субаренду желающим заниматься фермерством. Эти структуры получают земли чиновничьими решениями, без какого-либо участия сельских жителей.
Такое положение дел имеет несколько крайне негативных последствий. Назовем лишь наиболее важные из них.
Во-первых, растет общая напряженность вокруг земельного вопроса. На фоне сохранившихся на Северном Кавказе неформальных представлений о принадлежности земли сельским общинам, на фоне традиционно большого внимания к земельным правам даже там, где это внимание не имеет прямой экономической мотивации, жители сел часто оказываются лишены любой легальной возможности влиять на решения, касающиеся земли. Эта ситуация сама по себе ведет к протестным настроениям, которые усиливаются и нередко выплескиваются в массовые акции жителей в случаях чиновничьего произвола в земельных делах. О масштабах и характере последнего на Северном Кавказе красноречиво говорит, например, следующее обстоятельство: при анализе многих конфликтов, касающихся земли, выясняется, что один и тот же участок земли был продан несколько раз и фактически имеет нескольких владельцев, готовых защищать свои права с документами в руках.
Во-вторых, отсутствие частной собственности на сельскохозяйственные земли блокирует инвестиции в развитие сельского хозяйства. Многие предприниматели открыто заявляют, что хотели бы вкладывать средства в развитие сельхозпроизводства на землях, на которых они работают, но не рискуют этого делать до тех пор, пока не стали собственниками этих земель. Одновременно конфликтами оборачиваются попытки реализовать на Северном Кавказе крупные инвестиционные проекты, под которые требуются землеотводы. Например, выделение земель под курортные объекты в горах Кабардино-Балкарии привело к длительным спорам между операторами курортного строительства и жителями сел, близ которых эти объекты планируется строить. Механизм выкупа земель у местных жителей по рыночной цене, который выглядел бы наиболее естественным, не мог быть применен из-за отсутствия приватизации. Сельчане считали себя вправе жестко требовать некую компенсацию за предоставление земель курортам, но юридически их позиции в этом были слабы, что не позволяло создать четкую «дорожную карту» согласования интересов и только осложняло ситуацию. Подобные конфликты при подготовке к реализации крупных инвестиционных проектов имели место и в других республиках СКФО.
В-третьих, отказ от земельной реформы затрудняет разрешение имеющихся земельных конфликтов. Он исключает прямые переговоры заинтересованных лиц, сельских общин и т.д. по земельным вопросам, так как никакое соглашение между ними не может быть оформлено в виде передачи земли от одного собственника к другому. Все земельные вопросы решаются не прямым диалогом собственников, а только через государство, которое показало себя далеко не безупречным менеджером в земельной сфере.
2. Не решен целый ряд конкретных земельных вопросов, которые возникли в результате депортации северокавказских народов в Сибирь и Казахстан в 1943-1944 годах и последующих организованных переселений. Эти процессы породили массу конфликтов самого разного уровня: от межрегиональных (конфликт вокруг Пригородного района) до происходящих внутри одного села. Практически у каждого конфликта свой «рисунок», что делает невозможным разрешение этих конфликтов по какому-либо типовому образцу. В решении абсолютного большинства таких конфликтов в последние годы нет реальных подвижек. В наиболее заметных конфликтах федеральная и региональная власть публично берет на себя роль ответственного посредника, «спонсора» урегулирования, но не предлагает таких путей урегулирования, которые дали бы результат. В конфликтах меньшего масштаба власти либо не участвуют, либо вмешиваются в них эпизодически, точно так же не предлагая ясной стратегии урегулирования
«Консервация» конфликтов представляет явную угрозу для межнациональных отношений, поскольку в большинстве из них стороны представлены разными этносами.
Влияние депортаций не ограничилось серьезнейшей травмой, которую причинили изгнанным с Кавказа народам эти преступления советской власти. Они, кроме этого, вызвали целую цепочку «компенсирующих» переселений – перемещений других кавказских народов на территории, освободившиеся от депортированных. Это предопределило массу будущих проблем: в 1957-1958 гг. возвращающиеся из депортации обнаружили на своей малой родине новых соседей, а в ряде случаев попросту не могли поселиться у родных очагов.
В качестве примера возникшего таким образом конфликтного узла можно привести ситуацию вокруг Новолакского района Дагестана. Район расположен на границе с Чечней. Он был образован в 1944 г., когда с территории, занимаемой ныне им, были депортированы чеченцы. В опустевшие чеченские села было принудительно переселено около пяти тысяч лакцев, проживавших в горах. Когда в 1957-58 гг. чеченцы начали возвращаться из депортации, власти препятствовали их заселению в Новолакский район (возможно, потому, что не хотели допустить его перенаселенности). Однако в последние годы существования СССР дагестанские чеченцы жестко поставили вопрос о том, что вместо Новолакского района должен быть образован Ауховский – так назывался район, который до депортации был заселен чеченцами и территория которого включала нынешний Новолакский район. В 1991 г. Третий съезд народных депутатов Дагестана принял постановление о воссоздании Ауховского района.
оволакский район был решено перенести на новую территорию, примыкающую с севера к Махачкале. На новом месте для лакцев за счет бюджета стали строиться дома, создаваться инфраструктура. Эта работа до сих пор не закончена. Несмотря на жесткие требования чеченских активистов, лакцы полностью освободили на территории «старого» Новолакского района только два села, и дата восстановления Ауховского района по-прежнему неизвестна. Задержка процесса переселения, вероятно, имеет не только технические причины. Дело в том, что на часть земель близ Махачкалы, которые предназначены для передачи лакцам, претендуют также кумыки - жители трех поселков в черте Махачкалы, которые распоряжались этими землями в 1930-е – начале 1940-х гг. В августе 2013 г. ситуация заметно обострилась: произошла крупная драка между группой молодых людей, среди которых, по данным СМИ, были и жители Новолакского района, и обитателями палаточного городка, разбитого еще весной 2012 г. на спорных землях жителями трех кумыкских поселков. Таким образом, ситуация складывается обоюдоострая: серьезные противоречия имеются и на той территории, откуда переносится Новолакский район (там чеченское население недовольно низкими темпами переселения лакцев), и на той территории, куда он переносится (там часть земель будущего района также стала предметом конфликтов). Тем самым, если ситуацию не изменить путем достижения договоренностей между заинтересованными сторонами, она обретает классические черты «цугцванга», то есть того положения, когда любой следующий ход ухудшит обстановку: усилением конфликта чревато и замедление переселения лакцев, и его ускорение. В данный момент нет свидетельств того, что удается наладить диалог по имеющимся спорным вопросам, несмотря на периодически проявляемую активность дагестанских властей на этом направлении.
Среди земельных конфликтов, первым толчком для которых послужила депортация, новолакский конфликт - один из самых масштабных как по площадям затронутых территорий, так и по числу людей, претендующих на проживание на этих территориях. Но и конфликты меньшего масштаба способны иметь серьезный резонанс. Например, в Кабардино-Балкарии ряд балкарских общественных организаций неоднократно ставили вопрос о воссоздании той системы «балкарских» районов, которая существовала на момент депортации балкарцев в марте 1944 года и впоследствии была восстановлена не полностью. В частности, крупные поселки, входившие на момент депортации в один из «балкарских» районов, сейчас находятся в составе республиканской столицы – города Нальчик. Их судьба стала предметом многочисленных заявлений оппозиционного властям Кабардино-Балкарии балкарского движения.
Что касается Дагестана, то там имеются десятки конфликтных узлов, порожденных так называемой «двойной депортацией» горского населения: в 1957-58 гг. обратно в Дагестан было переселено почти 14 тысяч хозяйств, в 1944 г. принудительно перемещенных в Чечню для поддержания сельского хозяйства после чеченской депортации. В Чечню отправляли в основном жителей дагестанских гор, но как минимум половина из них в горы не вернулась, а осела на дагестанской равнине. Это привело и к созданию на равнине отдельных «горских» сел, и (чаще) к появлению смешанных сел, в которых жители равнины обрели новых соседей – прошедших через Чечню горских переселенцев. Аналогичные процессы шли и позднее – например, когда в 1960-е - 1970-е гг. дагестанских горцев в массовом порядке переселяли на равнину из зон землетрясений. Тогда же началась и стихийная миграция из горной части Дагестана, которая идет до сих пор. Сельская равнина Дагестана на сегодняшний день – это территория, где почти все жители имеют «новых», обретенных в последние десятилетия соседей. Распределение между ними земель, должностей в сельском самоуправлении и прочих ресурсов не раз вызывало и продолжает вызывать конфликты, в том числе сопровождавшиеся силовыми эксцессами. В региональных СМИ и интернете подобные конфликты нередко обсуждаются с противопоставлением интересов «коренных» и «пришлых», что не может позитивно сказаться на межэтнических отношениях.
Последствия переселений советского времени для сегодняшнего Северного Кавказа – своего рода «обстоятельства непреодолимой силы». Эти переселения создали немало конфликтных ситуаций, прежде всего в земельной сфере, не имеющих простых схем разрешения. В частности, введение частной собственности на земли сельхозназначения, хотя и является, как мы отметили выше, насущно необходимым для северокавказских республик, решить эти конфликты не может: передача в частную собственность земель, ставших предметов конфликта в результате переселений, почти наверняка позволит одной из сторон заявить об ущемлении ее интересов при приватизации, от чего конфликт может разгореться только с новой силой. Так что в процессе осуществления на Северном Кавказе земельной реформы необходимо будет отдельно решать проблемы, связанные с наследием советских миграций. Но в ситуации, когда в распоряжении у государства нет ясного представления о методах разрешения описанных конфликтов, естественно начать поиск путей их урегулирования через диалог заинтересованных сторон. Однако конкретных шагов к созданию условий для такого диалога не предпринимается.
3. На Северном Кавказе существуют значительные земельные массивы, где региональное законодательство установило своего рода «особый режим», который, возможно, по формальным признакам и вписывается в российское законодательство, но фактически порождает крайне сложную, причудливую систему использования и администрирования этих земель. Ярким примером служат земли отгонного животноводства в Дагестане. Это почти миллион гектар равнинных площадей, предоставлявшихся в советское время горным селам. На отгонных землях действует особый правовой режим, установленный республиканским законодательством. Они, по существу, «изъяты» из тех равнинных районов, в которых они физически находятся: горные хозяйства арендуют их у республиканского правительства. Более того, все жители сел, стихийно выросших на этих землях, - а это, по самым скромным расчетам, не менее 50 тысяч человек - зарегистрированы в «своих» горных районах, хотя живут на равнине иногда уже не в первом поколении. Коренные жители равнины, в том числе через свои этнические общественные организации, регулярно выражают недовольство такими горскими "анклавами". Сами жители "анклавов"тоже хотят каким-то образом прояснить свой статус, хотя бы потому, что сейчас они, живя на равнине, для оформления любых документов вынуждены ездить в горы, иногда за сотни километров.
При этом оказывается, что любые попытки предложить «рамочное», общее для всего массива отгонных земель решение, которое опиралось бы на российское законодательство, крайне трудно. Если, например, отнести эти земли к равнинным районам, то может поменяться этнический баланс в этих районах, что повлияет на неофициальное, но прочно сложившееся там распределение постов. Если же создать новые районы, состоящие исключительно из сел на "отгонных"землях, то по сути будет оформлено изъятие этих земель у жителей равнины. В итоге вопрос о статусе почти миллиона гектар "висит"уже не первое десятилетие, что имеет самые разнообразные последствия. Например, в ряде случаев жители расположенных по соседству сел равнинных районов и сел, находящихся на землях отгонного животноводства, не дожидаясь каких-либо решений государственных органов, заключают между собой неформальное соглашение о разграничении земель. Такие соглашения нередко подписываются в мечетях и основаны на традиционном «обычном» или исламском праве. Одновременно проблематика отгонных земель становится одной из ключевых тем в выступлениях этнических общественных организаций Дагестана, особенно общественных организаций кумыков – наиболее многочисленного из коренных народов равнины.
Таким образом, отгонные земли также порождают ситуацию земельного «цугцванга», когда серьезным недовольством населения может обернуться и сохранение statusquo, и изменение существующей ситуации. Но и здесь государство на данный момент не создало механизмов диалога, в котором бы шел поиск взаимоприемлемых решений относительно данных земель. Это может иметь последствия двух родов: либо будут обостряться конфликты, либо будут развиваться пути их решения, не основывающиеся на российском праве. Второй вариант обозначит серьезный разрыв между формально-государственными институтами и реальным укладом жизни сегодняшнего Северного Кавказа.
Итак, кризис земельных отношений в северокавказских республиках состоит в том, что наиболее острые проблемы, накопившиеся в земельной сфере, не решаются, тем самым тормозя хозяйственное развитие и усиливая конфликты. Корни этих проблем частично лежат в советском прошлом, частично – в конкретных решениях, принимавшихся уже в постсоветское время.
Для более полной характеристики кризисного состояния земельной сферы на Северном Кавказе необходимо отметить еще три обстоятельства.
Во-первых, важно учитывать, что вопрос о судьбе сельхозземель на Северном Кавказе актуален не только для тех, кто имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству. Дело в том, что в условиях продолжающегося прироста населения на фоне сельских традиций, предполагающих строительство отдельных домов для всех имеющихся в семье сыновей, кроме младшего, северокавказские села регулярно сталкиваются с дефицитом земли под застройку, и нынешние сельхозземли рассматриваются населением в том числе и как территория для дальнейшего расширения села (часто противозаконного). Это создает дополнительные источники напряженности в земельных спорах.
Во-вторых, ошибочным является мнение, что действительная причина земельных конфликтов на Северном Кавказе состоит в межнациональных отношениях, в якобы существующей изначальной враждебности сторон конфликтов друг другу из-за разной этнической принадлежности. Действительно, часто конфликты за землю происходят между сельскими общинами, представляющими разные народы. Распространена и ситуация, когда земельные требования, обращенные к власти, формулируются от лица целого народа и даже сопровождаются националистической риторикой. Но на деле конфликты, порожденные отказом от земельной реформы, вовсе не обязательно являются межэтническими. Известно немало случаев, когда община того или села вступала в противостояние со своим же односельчанином-предпринимателем, получившим в аренду у районной или республиканской власти земли, которыми до этого совместно пользовались члены сельской общины. Наиболее общий протестный мотив в земельных вопросах состоит не в ущемлении прав какого-либо народа, а в том, что сельским жителям не раздали в собственность земли, которые они обрабатывали десятилетиями или столетиями.
Мотивы «исторической принадлежности» земель тому или иному этносу, «восстановления справедливости» по отношению к тому или иному народу, действительно, нередко звучат в ходе земельных конфликтов. Часто они дополнительно затрудняют их разрешение, потому что оказывается, что представители государства и сельские жители формулируют свои позиции в принципиально разных терминах: первые – в терминах федерального и регионального законодательства, вторые – в терминах традиционных земельных отношений. Но опыт показывает, что там, где удается закрепить права сельчан на землю через предоставление им в собственность земельных паев, этнический компонент из земельных отношений постепенно отходит на второй план. Так, в Карачаево-Черкесии, в том числе и в ее многонациональной юго-восточной части, где в целом имеются проблемы в межэтнической сфере, земля, за редкими исключениями, «поставщиком» этих проблем не является: из предмета бесплодных споров и апелляций к властями земля становится предметом договорных отношений, в том числе и между представителями разных этнических общин (исключения составляют немногочисленные села, где жители в массовом порядке отдавали свои земельные паи в аренду крупным бизнес-структурам, не осознав невыгодные для себя условия аренды).
В-третьих, появление в земельных отношениях альтернативных регуляторов (в том числе и шариатского права) следует рассматривать не как простое проявление «кавказской специфики», и не как результат неких «враждебных диверсий». Наблюдения показывают, что альтернативные правовые механизмы в наибольшей степени задействованы там, где государственное законодательство в нынешнем своем виде не предлагает выхода из правового тупика. Неслучайно, например, практика заключения соглашений о спорных землях в мечетях особенно распространена между жителями сел на землях отгонного животноводства и соседних с ними сел в Дагестане (о проблеме отгонных земель см. выше).
Итак, наши исследования показывают, что сохранение нынешней ситуации в земельной сфере гарантированно ведет к следующим негативным последствиям:
• крайне высоким рискам для инвесторов любого уровня, земельные права которых не могут быть гарантированными в условиях, когда соответствующие сделки могут вызвать протест сельского сообщества, в чьем ведении исторически находилась данная земля;
• ухудшением межнациональных отношений, активизацией этнического дискурса в публичном пространстве;
• дезинтеграцией правового поля, формированием определенных ниш, в которых действуют нормы, альтернативные российскому законодательству.
Сейчас на Северном Кавказе отсутствует механизм преодоления создавшегося положения в земельных отношениях, что позволяет говорить о серьезном и опасном кризисе в данной сфере. Неразрешенные конфликты сохраняются, не снят риск появления новых конфликтов. Какой-либо системы мер, направленной на изменение текущего положения дел, не существует. Наиболее популярным вариантом противодействия нарастанию напряженности в земельной сфере до сих пор было создание согласительных комиссий, как регионального, так и более локального уровней. Другим вариантом реагирования властей (преимущественно региональных) были экстренные выезды высокопоставленных чиновников в зону конфликта в момент его обострения. Временно снимать напряженность такие меры иногда помогали. Однако очевидно, что они не были способны устранить те обозначенные выше факторы, которые предопределяют возникновение земельных конфликтов в республиках.
Для преодоления сложившегося в земельной сфере кризиса, на наш взгляд, первостепенными являются следующие меры.
Во-первых, необходимо тщательно подготовить и провести земельную реформу в тех республиках, которые до сих пор отказывались от ее проведения, введя мораторий на приватизацию сельхозземель. Подготовка реформы потребует решения ряда серьезных территориальных споров, но без реформы напряженность в земельной сфере будет только расти.
Во-вторых, необходимо ускорить разграничение земель на Северном Кавказе по предметам ведения, передав муниципальные земли, как этого требует закон, в ведение сельских поселений. До сих на большей части территории республик СКФО этот процесс не завершен, села юридически не распоряжаются даже землями, находящимися в непосредственной близости от них. Закрепление земель в ведении сел сделает села центральными субъектами переговорного процесса в случае земельных конфликтов. Будут созданы предпосылки для прямого диалога сельских общин друг с другом. Наши исследования показывают, что и сейчас там, где удается начать такой диалог вместо походов «за правдой» к региональным чиновникам, конфликты разрешаются успешнее.
В-третьих, необходимо создавать прямые механизмы согласования земельных решений между сельскими сообществами, разрабатывать диалоговые процедуры в земельной сфере. Они будут требоваться на всех этапах проведения земельной реформы на Северном Кавказе.
3. КРИЗИС ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЭЛИТ
С элитой северокавказских регионов связаны сегодня наиболее распространенные, наиболее «стойкие» мифы о Северном Кавказе. Эти мифы, как представляется, глубоко укоренены не только в массовом сознании россиян, но и среди чиновничества, ответственного за северокавказскую политику. Основные мифы можно охарактеризовать следующим образом.
• Элита на Северном Кавказе устроена по «родовому», «тейповому» принципу, для попадания на чиновничьи должности, для получения каких-либо возможностей в бизнесе основную роль играют национальность и родственные связи «соискателя».
• Нынешняя элита северокавказских республик – единственный гарант их пророссийской ориентации, любая ее смена с высокой вероятностью приведет к приходу «в верха» тех сил, которые поведут Северный Кавказ к отделению от России.
Оба мифа имеют мало отношения к реальности, и их распространенность мешает выработке адекватной региональной политики, да и в целом способствует созданию крайне искаженных представлений о Северном Кавказе. Покажем неадекватность каждого из этих мифов по отдельности.
Миф об этно-родовом устройстве элиты. Для достижения карьерного или предпринимательского успеха на сегодняшнем Северном Кавказе чаще всего необходима поддержка какого-либо влиятельного представителя местной элиты. Платой за поддержку является лояльность, которая может иметь как материальное выражение, так и политическое (например, лояльный глава района обеспечивает своему покровителю победу его кандидата на выборах в региональный парламент и т.д.). Такая схема идеально вписывается в так называемые отношения «патрон – клиент», которые являются доминирующими в элите многих российских регионов, не только северокавказских. Родственные отношения, принадлежность к одной и той же национальности нередко, действительно, скрепляют лояльность «патрона» «клиенту» на Северном Кавказе. Но в действительности чиновничьи команды и бизнес-союзы, существующие в республиках, просто слишком велики по своим масштабам для того, чтобы их ядро состояло из людей одной фамилии или даже одного этноса.
В качестве яркого примера можно рассмотреть команду находящегося ныне под следствием мэра Махачкалы Саида Амирова, которую федеральные СМИ регулярно обозначали как «клан Амирова». Действительно, два сына и ряд других родственников Амирова занимали высокие должности в федеральных, региональных и муниципальных структурах Дагестана. Однако высокие посты в мэрии, заметные позиции в городском бизнесе, наиболее подконтрольном главе города (ЖКХ, строительство, торговля), при Амирове в больших количествах занимали люди отличных от него национальностей (Амиров – даргинец), и уж тем более не все состояли с ним в родстве. Занять значимые позиции в городе без личного одобрения Амирова, без тщательного «простраивания» отношений с его окружением было, по многочисленным свидетельствам, невозможно. Выход из лояльности мог быть жестко пресечен, в том числе и силовым образом. Но если сформированное Амировым сообщество называть «кланом», то подобных «кланов» в России немало и за пределами Северного Кавказа.
Кроме того, активное взаимодействие между лидерами элитных групп на Северном Кавказе также, чаще всего, не ограничено родственными или этническими рамками: наверху властной «пирамиды» регулярно возникают договоренности между представителями разных этносов. Среди элиты имеются союзы, объединяющие представителей одного народа (например, так называемый «аварский клуб» дагестанских глав районов и городов), но гораздо больше межэтнических союзов.
Сказанное не означает, что этнический и семейный факторы не играют никакой роли в структуре северокавказской элиты. Хорошо известно, что в многонациональных республиках по крайней мере три руководящих поста (глава региона, глава правительства, глава парламента) разделяются между представителями разных национальностей (как правило, трех наиболее многочисленных). Заметим, впрочем, что нередко, хотя и не всегда, такое распределение постов носит скорее формальный, «протокольный» характер, поскольку «представлять этнос» на этих постах часто доверяют чиновникам, не имеющим значимого влияния в среде своего народа. Тем не менее, игнорировать такую систему распределения высших постов невозможно: так, например, попытка главы Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева отказаться от нее стоила ему лояльности ряда этнических общественных структур и, в конечном итоге, поста.
За пределами постов «большой тройки» национальность чиновника сейчас привлекает гораздо меньшее внимание, чем это было на Кавказе в 1990-е годы. Чаще всего принципы национального распределения постов используются как идеологические наполнители индивидуальных властных амбиций. Характерный пример – регулярно выдвигаемый в Дагестане лозунг увеличения представительства во властных структурах третьего по численности народа республики – кумыков. Он звучит на фоне хорошо известной в республике раздробленности кумыкской элиты и поэтому заведомо не может выдвигаться в интересах кумыкского народа в целом, а лишь в интересах конкретных его представителей.
Миф о нынешней элите как единственном противовесе сепаратизму. Этот миф возник, скорее всего, из-за неясных представлений о масштабе и характере радикальных движений на Северном Кавказе, а также под действием воспоминаний о первых годах после распада СССР, когда идеи этнического сепаратизма в ряде республик, действительно, всерьез присутствовали. Можно предположить, что и отказ от проведения всенародных выборов глав северокавказских республик также имел в своей основе опасение прихода там к власти неких сепаратистских сил (в публичном пространстве этот отказ чаще всего объяснялся желанием избежать межэтнических обострений, но это объяснение с трудом «проходит», например, для фактически мононациональной Ингушетии).
Есть много оснований утверждать, что тема отделения от России не занимает сколько-нибудь значимого места в сегодняшней северокавказской повестке дня. Назовем лишь наиболее очевидные из них.
• Большинство выезжающих из республик для учебы, работы, занятий бизнесом направляются не за границу, а в другие регионы России; связь с другими регионами лишь крепнет, а не ослабевает.
• Вследствие этого, обретение контактов в регионах РФ за пределами Кавказа (со своими соплеменниками или нет) является одним из устойчивых приоритетов северокавказской молодежи.
• В отличие от ряда других национальных республик РФ, в республиках Северного Кавказа практически никогда не было заметны общественные настроения за ограничение роли русского языка, принуждение русских к изучению местных языков и т.д.
Установка на тотальную и безусловную поддержку нынешней северокавказской элиты негативна не только потому, что базируется на ошибочных, мифических представлениях о ситуации в регионах. В силу ряда свойств существующей в республиках элиты, опора на нее представляется предприятием крайне рискованным и непредсказуемым. Эти свойства таковы.
1. Внутренняя раздробленность. Она связана не только с борьбой за ресурсы, свойственной в той или иной мере элите любого российского региона. Северокавказская элита, кроме того, характеризуется отсутствием у ее членов «общей истории», объединяющего опыта, который способствовал бы развитию горизонтальных связей и созданию единой системы ценностей внутри элиты (исключением в этом плане, возможно, является лишь элита кадыровской Чечни). Это объясняется, во-первых, жесткой иерархичностью структуры «патрон – клиент», в которой представители элиты, ориентированные на разных «патронов», воспринимают друг друга прежде всего как соперников. Во-вторых, в верхнем слое элиты (крупные региональные чиновники, наиболее влиятельные бизнесмены) могут находиться люди с очень разными биографиями.
Например, если взять ту возрастную группу этого слоя, которая вошла в самостоятельную жизнь до распада СССР (а таковые там по-прежнему образуют абсолютное большинство), то в ней можно выделить, с одной стороны, людей, которые с первых своих шагов были ориентированы на чиновничью карьеру, и, с другой стороны, тех, которые на рубеже 1980-х – 1990-х гг. были видными в своих регионах «неформалами» - лидерами этнических общественных движений, подчас влиятельными в спортивной и криминальной среде, или теневыми бизнесменам. Такого рода экс-общественники по-прежнему присутствуют в дагестанских «верхах», экс-теневики – в «верхах» Карачаево-Черкесии. За прошедшие десятилетия контраст между ними и карьерными чиновниками во многом нивелировался, но все же столь существенная разница жизненных путей и исходных жизненных установок не позволяет говорить о северокавказской элите как о социально однородной группе. Более того, разница в «происхождении» определяет и различия в представлениях о допустимых правилах игры в тех или иных ситуациях. В частности, те представители элиты, за плечами у которых в прошлом – не только карьера чиновника или «паркетного» бизнесмена, часто по-прежнему обладают силовым ресурсом и могут применить его в критический момент.
2. Крайне слабый потенциал обновления. Почти во всех северокавказских республиках приход нового главы сопровождался очень непростым процессом формирования нового правительства. Даже те главы, которые обещали кадровую революцию, чаще всего с ней не справлялись, в условно «новых» правительствах большинство неизменно составляли люди, ранее так или иначе бывшие если не «у», то «при» власти, велика была и доля занимавших правительственные должности при предыдущих главах. Представляется, что это не результат слабости кадровой политики какого-либо конкретного руководителя, а следствие общих недостатков системы «патрон-клиентских» отношений внутри элиты. В этой системе предельно затруднено получение даже первичного управленческого опыта теми, кто не связан клиентской лояльностью ни с кем из крупных фигур регионального бизнеса и политики.
Отметим, что такое положение грозит катастрофическими последствиями в случае «выбивания» из властной системы наиболее крупных «патронов». Так, арест уже упомянутого мэра Махачкалы Саида Амирова 1 июня 2013 г. обернулся мучительным поиском вариантов замены его управленческой команды. По сути, можно сказать, что эта замена в полной мере так и не произошла: в «среднем звене» городского руководства, в бизнес-структурах, связанных с городским ЖКХ, изменений глобального характера пока нет. Проникновение «клиентелы» в хозяйство города было столь всеобъемлющим, что ее удаление грозит самому функционированию городского комплекса. На фоне кадрового голода, возникающего из-за перекрытости карьерных лифтов в условиях «патрон-клиентских» отношений, выбирать приходится «из двух зол»: если делать нынешнее чиновничество «неприкасаемым», то будут усиливаться протестные настроения, если же допустить отставки его наиболее влиятельных представителей, то есть риск потери управляемости.
Механизмы перекрытия карьерных лифтов для людей, не ориентированных ни на какого «патрона», могут быть разными. Они не исчерпываются прямым противодействием продвижению «наверх» конкретных лиц. Например, в Карачаево-Черкесии для наиболее заметных представителей черкесской элиты характерно самое широкое привлечение черкесской и абазинской молодежи, включая сельскую, на работу в свои или близкие структуры. Так достигается максимальный контроль за карьерным продвижением молодых людей (даже тех, которые не имеют больших жизненных амбиций), создается у них неверие в то, что можно добиться даже самых обычных, а тем более – заметных жизненных результатов без лояльности «патрону». По свидетельству представителя черкесской интеллигенции, «всей нашей молодежи сразу показывают, что надо быть с кем-то из них, иначе в республике ничего не добьешься».
3. Распространенная опора на силовой ресурс. Многие видные представители современной северокавказской элиты отличаются не только внушительной личной охраной, но и наличием у них подконтрольных ЧОПов, а в некоторых случаях, по версиям СМИ, поддерживаемым многими респондентами в регионах, - и связью с незаконными вооруженными формированиями. Существенно, что в глазах местного населения влияние крупных чиновников, особенно муниципальных, зиждется в первую очередь на силовом ресурсе. Приведем реплику жителя одного из малых городов Дагестана, рассказывавшего о системе выдачи мэром города участков под застройку: «У нас городской парк теперь называют «городом воров». Там все лучшие места пустили под участки. Но это для своих, а если кто другой хоть на метр за пределы разрешенного вылезет – тут же не приведи Бог, что начнется». Восприятие элиты как репрессивно-силовой машины, действующей в собственных интересах, подогревает протестные настроения среди населения, находящегося за ее пределами, то есть создает новые угрозы нестабильности.
Итак, ряд особенностей современной элиты северокавказских республик делают политическую опору на нее весьма рискованной. Однако дополнительные риски создает и то, какие механизмы поддержки этой элиты выбрал федеральный центр.
Во-первых, это механизм финансовой поддержки местной элиты. Этот механизм состоит из двух частей.
С одной стороны, распределителями федеральных финансовых средств, поступающих в регионы, является узкий круг лиц, извлекающих из этого значительные выгоды. К этому кругу могут относиться чиновники не только регионального уровня, но и различных федеральных структур. Яркой иллюстрацией служит смена подрядчиков на строительстве крупных инфраструктурных объектов - например, дорог, тоннелей и т.п. - регулярно происходящая в регионах после смены там главы территориального органа соответствующего федерального ведомства (неслучайно поэтому вслед за такого рода кадровыми изменениями происходила приостановка на несколько месяцев работ на некоторых крупных стройках).
С другой стороны, дозволенным источником обогащения крупных региональных чиновников является контроль за отраслями местной экономики, генерирующими наибольшие потоки наличных средств. Через «приближенные» МУПы и акционерные общества контролируется пассажирский автотранспорт, рынки, сбор коммунальных платежей и т.д. Отметим, что эта система несет в себе дополнительную угрозу для межнациональных отношений, поскольку нередко в организации, созданной для обеспечения финансовых поступлений такого рода, работает моноэтничный коллектив (чаще всего совпадающий по национальной принадлежности с «курирующим» эту структуру чиновником). Поэтому передача соответствующего «кормления» другому чиновнику или какие-либо изменения «правил игры» в соответствующем бизнесе неоднократно приводили к протестным выступлениям с ярко выраженной этнической составляющей (например, протестные акции «газовиков» в Махачкале весной 2011 года). В целом же эксклюзивный доступ узкого круга должностных лиц к наиболее крупным источникам финансовых средств в регионах увеличивает антагонизм в обществе, осознание очень резкого разрыва возможностей элиты и тех, кто не стал ее частью.
Во-вторых, в качестве меры поддержки нынешней элиты можно рассматривать и уже упомянутый отказ от всенародных выборов глав регионов, который во многих случаях может облегчить сохранение у власти имеющегося руководителя. Судя по реакции на решение об отмене выборов, которую можно было наблюдать в местной блогосфере, а в случае Дагестана – и в ряде местных СМИ, оно было воспринято как свидетельство политической «отдельности» этих регионов от других частей России, в конечном итоге - как закрепление политической дезинтеграции страны.
Отметим, что, помимо отмены всенародных выборов, политическая поддержка нынешнего руководства северокавказских республик в последнее время может выражаться и в одобрении федеральным центром попыток изменить политический уклад регионов в пользу их глав. Речь идет о «чеченизации» регионов, установлении в них такой системы управления, когда, как в сегодняшней Чечне, максимальная личная лояльность главе региона является обязательным условием продвижения не только на региональные, но и на муниципальные должности. Такой порядок мало соответствует политическим традициям ряда других северокавказских регионов. Кроме того, факт установления этого порядка в Чечне не означает его приложимости к другим регионам, поскольку опыт чеченского общества последней четверти века, прежде всего – военная травма существенно отличает Чечню от других республик Кавказа.
Итак, ставка на нынешнюю элиту Северного Кавказа, в силу ряда свойств этой элиты, привела в данный момент к такому положению, которое однозначно можно считать кризисным. Имеющаяся элита северокавказских республик, вне зависимости от своей политической лояльности федеральной власти, вследствие своего внутреннего «устройства» в целом не может считаться надежным партнером федеральной власти. Также ее поддержка федеральным центром несет политические риски в силу тех методов, которыми она оказывается. Однако каких-либо шагов, направленных на системное изменение политики в отношении элиты, не просматривается. Тем самым риски, речь о которых шла выше, воспроизводятся вновь и вновь, возможно, увеличиваясь по мере ухудшения общей ситуации на Северном Кавказе.
4. КРИЗИС АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одна из основных специфических характеристик Северного Кавказа, вызывающая негативное восприятие этого региона российской публикой, – масштабы распространения насилия, в первую очередь террористической деятельности. С этой точки зрения Кавказ воспринимается не просто как чуждый элемент в системе российских регионов, живущий по другим законам, но и как угроза другим российским территориям. Тем самым эффективность антитеррористической политики государства во многом определяет и будет определять как внутреннюю ситуацию в северокавказском регионе, так и позиционирование Кавказа в общероссийском контексте.
В отсутствие внятной общегосударственной политики в данном вопросе среди властных структур и экспертного сообщества сложились две позиции по вопросу об общей стратегии и необходимых конкретных мерах в этой сфере.
Позиция сторонников «жесткого курса» (ястребов) характеризуется следующими основными особенностями:
• максимально широкая трактовка понятия «террористы и их пособники», куда фактически включаются все представители нетрадиционного ислама в регионе;
• безусловный приоритет жестких силовых методов подавления;
• цель – война до победного конца, полный разгром противника.
Применительно ко второй позиции в бюллетенях Общества «Мемориал» удачно использован термин «политика мягкой силы». Для нее характерен гораздо менее линейный взгляд на проблему терроризма:
• сторонники нетрадиционного ислама как определенного религиозного направления, которое люди имеют право исповедовать в рамках гарантированной Конституцией РФ свободы совести, отделяются от террористов и их пособников – людей, нарушающих закон и виновных в конкретных преступлениях;
• среди самих террористов разделяются непримиримые, не идущие ни на какие компромиссы, и те, кто готов прекратить противоправную деятельность; среди последних – те, «на ком есть кровь», и те, «на ком нет крови»;
• по отношению к каждой из рассмотренных групп должна проводиться разная политика:
◦ принадлежность к нетрадиционному исламу при отсутствии фактов нарушения российского законодательства вообще является частным делом отдельного человека;
◦ случайно или по глупости попавших «в лес» молодых людей, на ком нет крови, необходимо как можно быстрее выводить «из леса» и включать в мирную жизнь;
◦ готовых прекратить террористическую деятельность боевиков также необходимо адаптировать к мирной жизни, но по вопросу о формах подобной адаптации единства нет: взгляды различаются от полной амнистии до смягчения наказания за добровольную явку;
◦ жесткие силовые методы должны однозначно применяться к именно к непримиримым представителям боевиков;
◦ силовые акции, контртеррористические операции должны осуществляться строго в рамках закона, с соблюдением прав мирных жителей;
◦ целью политики является гражданское умиротворение, снижение конфликтности, прекращение раскола общества.
Можно ли оценить эффективность тех или иных направлений антитеррористической деятельности на основе каких-либо индикаторов? На самом деле, простого решения здесь нет. Статистика террора и антитеррора ведется различными силовыми ведомствами и общественными организациями, причем достаточно часто данные существенно расходятся. Регулярный сбор социологической информации по данному вопросу не налажен. Но даже если так или иначе решить проблему информации, возникает множество содержательных нюансов. Какой индикатор можно считать показателем успеха антитеррористической деятельности: снижение количества пострадавших в результате террористической деятельности в целом (боевиков, силовиков, гражданских лиц), снижение числа жертв терактов (силовиков и гражданских лиц) или вообще рост числа убитых боевиков, как недавно было предложено одним из экспертов? Очевидно, ответ на этот вопрос также зависит от того, как мы трактуем антитеррор – как войну с врагом или как попытку справиться с трагическим внутригражданским расколом, в рамках которого с обеих сторон гибнут граждане нашей страны. Еще один важный вопрос, который, как представляется, вообще не ставился экспертами в данной области, – как оценивать временные лаги между моментом запуска той или иной политики и изменением индикаторов? Должна ли реакция быть мгновенной, и если нет, то какой период достаточен для того, чтобы определить, эффективна ли реализуемая стратегия?
Тем самым и здесь мы вынуждены оговориться, что анализ количественных индикаторов используется именно в качестве иллюстрации. Но и в этом качестве анализ данных дает достаточно интересную картину[7]. Так, если рассмотреть динамику жертв террористической деятельности среди силовиков (суммарное число убитых и раненых) по данным Общества «Мемориал» за два периода: до осени 2010 г. и с осени 2010 по начало 2013 г.
см. График 2), то можно выявить изменение тренда потерь. Если для первого периода, несмотря на существенные колебания конкретных показателей, характерен незначительный повышательный тренд потерь, то во второй период наблюдается явная тенденция к снижению. Подобная динамика характерна как для числа жертв в рамках СКФО в целом, так и для Дагестана, где потери в последнее время наиболее масштабны, причем применительно к Дагестану перелом тренда даже более очевиден.
Что же могло послужить причиной произошедших изменений? До осени 2010 г. в практической политике практически полностью доминировала первая из рассмотренных выше стратегий - силовая. Проведение масштабных спецопераций; зачистки сел, где по подозрению правоохранительных органов, могли укрываться боевики – все это представляло фактически повседневную реальность. При этом, по информации правозащитных организаций и независимых средств массовой информации, силовые акции нередко сопровождались массовым беззаконием и нарушением прав человека со стороны представителей силовых структур: похищениями людей, бессудными казнями, пытками подозреваемых, насилием над мирными жителями. Действия правоохранительных органов не были подотчетными и подконтрольными каким-либо гражданским структурам.
С осени 2010 г. появились новые моменты. Это не значит, что произошел отказ господства от силовых методов – напротив, достаточно жесткая силовая политика, в том числе и в неправовых формах, продолжала реализовываться. Так, контртеррористическая операция в Приэльбрусье в 2011 г. продолжалась 9 месяцев, чуть не загубив процветающий горнолыжный курорт. Однако проводимая политика стала не столь однонаправленной. В ноябре 2010 г. при президенте Республики Дагестан была создана Комиссия по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории Республики Дагестан («Комиссия по адаптации»). Комиссию возглавил вице-премьер правительства Республики Дагестан Ризван Курбанов. В ее состав вошли руководители силовых структур в регионе, руководство ряда министерств, представители гражданского общества, религиозного сообщества Дагестана. В члены Комиссии был включен один из лидеров мирного салафитского религиозного движения Аббас Кебедов. Цель работы Комиссии состояла в упрощении выхода из «леса» для тех, кто готов прекратить участие в незаконных вооруженных формированиях и сдать оружие. Аналогичная Комиссия была создана и в Республике Ингушетия, но там ее деятельность носит гораздо менее публичный характер. К работе с членами незаконных вооруженных формирований привлекаются родственники боевиков, большая роль в ее работе принадлежит лично президенту Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.
Если информация о результатах работы ингушской Комиссии достаточно фрагментарна и противоречива (хотя, судя по всему, в регионе достигнуты реальные успехи в этом направлении), то максимальная публичность работы дагестанской Комиссии позволяет оперировать более точными данными. За два года своей работы дагестанская Комиссия по адаптации рассмотрела заявления 46 человек, из которых половина по ходатайству Комиссии была выпущена на свободу. Если в начале к помощи Комиссии прибегали в основном пособники боевиков, не совершившие серьезных преступлений, либо лица, сдавшиеся в ходе спецопераций, постепенно авторитет этого органа и доверие к предоставляемым им гарантиям окреп, и через Комиссию стали проходить реальные боевики, выходившие из «леса» с оружием.
Тем не менее, подобного рода инициатива не нашла поддержки на федеральном уровне. Идеи о создании федеральной комиссии по адаптации, которая курировала бы работу региональных комиссий, о более четком нормативном урегулировании статуса и процедур работы подобных органов (существующие комиссии в основном действуют в неформальном поле и опираются на авторитет их руководителей, а также поддерживающих их глав регионов) так и не были реализованы на практике в результате противодействия силовых структур. Деятельность Комиссии по адаптации в Дагестане все более активно блокировалась входящими в нее силовиками, и наконец, со сменой руководства республики, Комиссия в начале 2013 г. была ликвидирована со следующей оценкой первого в республике лица: «она сыграла свою роль, но незначительную». Новые инициативы в этой сфере (миротворческая комиссия, договоренности с местными сообществами о профилактике терроризма) пока остаются на уровне деклараций. В то же время усилились нападки на примирительную политику главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова со стороны главы сопредельной Чечни, который фактически трактует ее как пособничество террористам. Никакой реакции с федерального уровня на подобные обвинения не последовало.
Фактически можно констатировать, что силовой сценарий вновь стал преобладающим. Это нашло отражение как в свертывание деятельности, направленной на мирное урегулирование противостояния, так и в активизации силовых методов. Основные тенденции в данной сфере можно свести к следующим.
1. Распространение репрессивных действий не только на боевиков, но и на членов их семей и родственников. Такие действия осуществляются по нескольким направлениям. Расширяется практика подрыва домов семей боевиков и тех, кого подозревают в причастности к терроризму[8]. Фактическую поддержку получаютпротивоправные действия против семей боевиков в рамках местных сообществ. В законодательство включены положения об ответственности родственников и близких боевиков за возмещение ущерба, причинённого в рамках террористического акта, при этом и круг лиц, на которых могут быть наложены подобные обязательства, и основания для наступления ответственности определены крайне расплывчато.
2. Привлечение к осуществлению силовых акций и поддержка действий вооруженных дружинников, активность которых далеко выходит за рамки правового поля (более подробно об этом – в следующем разделе).
3. Правовые ограничения условий адаптации боевиков. В новое законодательство включены положения, в соответствии с которыми, например, лица, прекратившие сопротивление в ходе спецоперации, не могут считаться добровольно прекратившими террористическую деятельность, хотя работа дагестанской Комиссии по адаптации подтвердила эффективность вмешательства Комиссии в подобных ситуациях, что позволяло избежать дополнительных жертв.
4. Усиление силового давления на мирных нетрадиционных мусульман. В частности, в Махачкале недавно прошло несколько силовых акций, направленных на подрыв бизнеса, принадлежащего представителям этой группы населения (массовое задержание посетителей халяльных кафе).
На федеральном уровне не был воспринят и осмыслен новый опыт гражданского примирения, накопленный в отдельных северокавказских республиках. Вместо того, чтобы проанализировать полученные результаты и реализовать меры по повышению статуса и эффективности работы комиссий по адаптации, фактически приоритет был отдан внешне более эффектным силовым мерам.

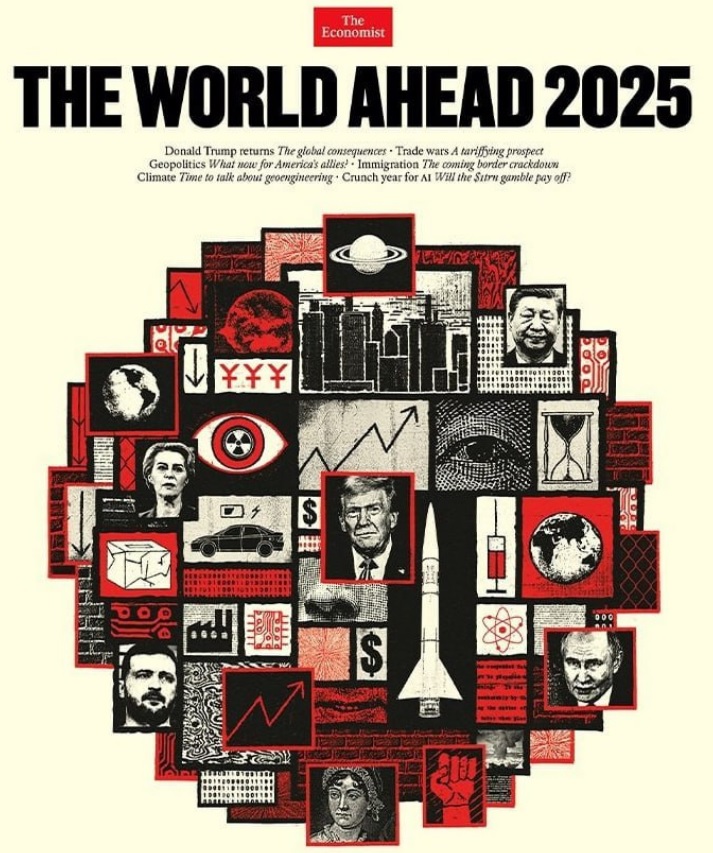
















Комментарии (0)